Любите людей: Статьи. Дневники. Письма. - [29]

В этом предисловии к 23-му тому Собрания сочинений Жюля Верна автор рассказывает об истории создания Жюлем Верном большого научно-популярного труда "История великих путешествий и великих путешественников".
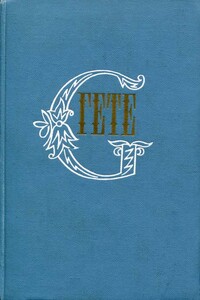
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Маленький норвежский городок. 3000 жителей. Разговаривают все о коммерции. Везде щелкают счеты – кроме тех мест, где нечего считать и не о чем разговаривать; зато там также нечего есть. Иногда, пожалуй, читают Библию. Остальные занятия считаются неприличными; да вряд ли там кто и знает, что у людей бывают другие занятия…».

«В Народном Доме, ставшем театром Петербургской Коммуны, за лето не изменилось ничего, сравнительно с прошлым годом. Так же чувствуется, что та разноликая масса публики, среди которой есть, несомненно, не только мелкая буржуазия, но и настоящие пролетарии, считает это место своим и привыкла наводнять просторное помещение и сад; сцена Народного Дома удовлетворяет вкусам большинства…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.