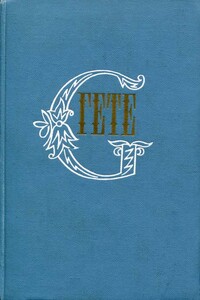в самом ходе художественного отображения жизни и часто «перехватывает» через заглавный тезис: какое-нибудь «мне отмщение и аз воздам» превращается в гораздо более вместимую, гуманную, живую, мудрую мысль. Мы находим в повести «Смерть Ивана Ильича» не только убийственный памфлет, но и потрясающее воспроизведение правды как таковой, служащее основной идее, но и могущее воздействовать без прямой связи с ней.
Единое в общем сатирическое звучание повести «Смерть Ивана Ильича» в начальных главках (сцена в доме покойного, история «обыкновенной и ужасной жизни» Ивана Ильича), начиная с момента открытия Иваном Ильичом того факта, что он серьезно и угрожающе болен, как бы раздваивается. Тогда-то именно сатирическое осмеяние, вообще обличительная струя повести, уходит в сторону (проводится главным образом через «показ ряда побочных персонажей и обстановки», как отмечено в книжке Л. Мышковской о позднем творчестве Толстого). Для выделяемой теперь на первый план важнейшей темы смерти Ивана Ильича становится характерным и главным иной стилевой ряд, нежели в первой трети повести. Основное здесь теперь — острая, небывалая выразительность картин действительного страдания, нравственной муки и физической слабости, реалистическое изображение отчаяния, болезни, агонии и смерти. Таким образом, Иван Ильич в этих главах как бы выходит из той твердой сатирической скорлупы, в которой он предстал перед нами, и оказывается перед судом вечности слабейшим, одиноким, жалчайшим, терпящим жестокие потрясения от приступов смертельной болезни, от мук слишком поздно проснувшегося нравственного сознания и оттого, что никто вокруг не хочет и не может понять его и помочь ему, а все только лгут, лгут и терзают его. До каких высот реализма и почти лирической выразительности доходит здесь Толстой, можно обнаружить в ряде примеров.
Вот исключительная по художественной правдивости и психологизму ночная сцена в спальне Ивана Ильича. Иван Ильич после довольно утешительного визита к врачу проводит вечер с гостями и поздно уходит к себе. Обольщенный авторитетностью докторских предписаний, он принимает на ночь лекарство и, ложась на спину, «прислушивается» к его благотворному действию. Ему уже кажется, что все идет хорошо, что он уже почти вылечивается. «Он потушил свечу и лег на бок… Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную… Засосало сердце, помутилось в голове…» — и т. д. Это совершенно потрясающее место в повести. Читая его, понимаешь, как это может быть, чтобы писатель, например, описывая отравление своей героини, сам чувствовал вкус яда во рту и т. д. Это не виданное нигде больше у Толстого количество однородных членов — прилагательных — и особенно выразительнейший эпитет «серьезная боль» показывает, какую тонкость оттенков мог наблюдать Толстой и как он способен был сводить их в одно впечатление ужаса, тоски и безнадежности, как в данном случае. Немного ниже в той же главе — тою же ночью — Ивана Ильича охватывает панический ужас смерти, перемежающийся тяжелым чувством истерической злобы на тех, кто остается жить, ни о чем не подозревая. В ужасе он мечется но постели, пытается зажечь свечу, ему мешает сделать это тумбочка, и он, в слепом озлоблении, давит на нее так, что тумбочка с грохотом падает. На шум входит жена, провожавшая гостей. «Он лежал, тяжело и быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами глядя на нее. «Что ты, Jean?» — «Ниче…го… У…ро…нил». «Что же говорить. Она не поймет», — думал он». Опять поразительное по экспрессии место, — эта борьба с тумбочкой, неуместная жеманность французского перевода русского имени «Иван», «Ваня» и, наконец, эта выразительнейшая разрядка: «Ниче…го. У…ро…нил», — говорящая и об одышке больного человека, и о страшной злобе, которая его душит, и об отчаянии одиночества.
Таких эпизодов в дальнейших частях повести очень много, и всеми ими можно было бы равно восторгаться. Но кроме них во всем тексте повести рассыпаны столь же убедительные, правдивейшие психологические детали, замечания, образы, заставляющие вздрагивать. То это разглядывание Иваном Ильичом самого себя в зеркале, после чего он становится «чернее ночи»; то это «особенный вкус» французского чернослива с «обилием слюны, когда дело доходит до косточки», — в воспоминаниях детства; то это неожиданные для такой персоны, как Иван Ильич, воспоминания о «хороших минутах любви к женщине», а потом «женитьба… так нечаянно и разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство!»; то это воспоминание о службе, которая теперь именуется «мертвой», и правдивейшее вплетение служебных фразеологизмов в расшатанное мышление Ивана Ильича: «Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «Суд идет!..» Суд идет, идет суд, повторил он себе. Вот он суд!»; то, наконец, такой кошмарный образ, как «черный мешок», в который просовывала Ивана Ильича «невидимая, непреодолимая сила», — образ, превосходящий по страшной реальности знаменитые «двери» в потустороннем сознании уже агонизирующего князя Андрея. Таких поражающе правдивых, интуитивных образов и наблюдений у Толстого множество, и о каждом из них можно писать много. Но нам хотелось бы в добавление ко всему сказанному привести лишь один эпизод, говорящий о том, как исключительный реалист Толстой «следит» за каждой психологической мелочью, воссоздавая действительное возникновение ощущении и чувств, прямо ловя их во время возникновения. Начало повести. Петр Иванович входит в комнату, где лежит мертвый Иван Ильич, оглядывается. В это время буфетный мужик Герасим, «пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа». Опять совершенно исключительное замечание художника-психолога: человек часто чувствует нечто по самым вторичным признакам и ассоциациям смежности.