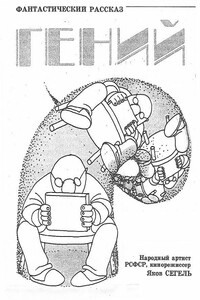Ложь во спасение - [2]
Поздно вечером, когда, вдоволь наговорившись, в палате погасили свет, помечтав, я, видимо, уснул, и мы с Шурочкой каким-то чудесных образом оказались на берегу теплого моря, она абсолютно обнаженная бежала от меня к воде, а я догонял ее, и мы оба падали на влажный песок…
— Доброе утро, мальчики! Мои глаза тут же сами собой раскрылись. Только что я догонял ее по пустынному пляжу, и вот она уже здесь, наяву, рядом. Шурочка была без своего белого халата, в отглаженных гимнастерке и юбке, в начищенных до блеска офицерских сапожках, точно пригнанных по ноге. Мне казалось, что все на ней сияет: на плечах — капитанские погоны, на груди — орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги», сиял гвардейский знак, сиял белый накрахмаленный подворотничок, а над всем этих сиянием, как-то совершенно по-особому, сияли ее светлые глаза.
— Сегодня гуляю! — объявила она. — Первый выходной за четыре года. Имею право? И она ушла. В тишине глухо прозвучал голос:
— Видимо, интересная женщина…
— «Видимо»? — мне было непонятно, как можно еще сомневаться.
— У него ж глаз нет, — объяснили мне. Но слепой возразил.
— Для того чтобы видеть, — произнес он из-под бинтов, — глаза совершенно не обязательны. Желательны, конечно, но не обязательны. Как вы считаете, новенький? Разве я посмел бы обидеть слепого, и поэтому поспешил ответить.
— Конечно. Конечно, вы правы. Он усмехнулся. — Я просто не могу теперь думать иначе. Новых глаз мне в ближайшее время никто не вставит. И, помолчав, добавил. — А так видно будет. Может, еще и придумают что-нибудь…
Ночью мне опять приснилась Шурочка, и снова я догонял ее по пустынному пляжу, снова тянулся рукой к ее обнаженной спине, мы падали на горячий песок и… Нянечка не давала моему сну прекрасно завершиться.
— Подъем! Кончай ночевать, бери градусник. Я знал, теперь все будет зависеть только от меня. Нужно, чтобы Шурочка поняла, что я не мыслю жизни без нее и что я не просто легкомысленно увлечен ею, а по-настоящему люблю, люблю без памяти, без оглядки, что и мама моя будет счастлива познакомиться с нею. Я даже не думал, а как ко всему этому отнесется Шурочка и, вообще, ответит ли она на мою любовь. Чтобы не показаться ветреным, я первое время старался скрыть свое чувство.
— Пройдитесь немного, — попросила она на другой день, — покажите нам, пожалуйста, свою походку. Я прошел несколько шагов к окну, несколько — обратно.
— Все-таки хромаете, — огорчилась Шурочка. — Завтра — на стол. Будем удалять осколок. Наступило завтра. Как Шурочке шло ее одеяние! Операционная была белой, халат на Шурочке — белый, белая шапочка, белая марлевая маска на лице — все белое, не белыми были только огромные ее глаза не то серые, не то голубые…
— Миленький! Что же это — вы такой синий? — удивилась она.
— А они все от страха синеют. — заметила операционная сестра, даже не посмотрев в мою сторону. Но Шурочка пришла мне на помощь.
— Он нисколечко не боится, просто у нас холодно. Ну-ка, девочки, закройте окно.
Вечером после операции доктор Хряшко заглянула в нашу палату.
— Ну, как себя чувствует мой герой? Она при всех сказала не «наш», а «мой», — «мой герой»!
Естественно, я ответил, что нормально и готов хоть сейчас отправиться с ней на прогулку.
— Какой прыткий! — Она, несомненно, обрадовалась, но тем не менее предложения моего не приняла. — Всему свое время. Спите пока, отдыхайте, набирайтесь сил. Я хочу видеть вас абсолютно здоровым. — И, наклонившись надо мной, при всех поцеловала меня не то в висок, не то в щеку, тихонько шепнув при этом: — Я горжусь тобой! Со мной начало происходить что-то невероятное. Мне казалось, что я парю над койкой, становлюсь сильнее, что почти исчезла боль в ноге — ко мне пришло ощущение полного и еще не испытанного счастья. На другое утро градусник мне принесла сама Шурочка, но чтобы никто не удивлялся этому, громко объявила:
— Помогаю, а то вас вон сколько.
Мне все стало ясно — мое чувство замечено, и я ей не безразличен. Выждав еще два дня, во время утреннего обхода я спросил ее:
— Товарищ капитан, а мне уже можно потихоньку вставать.
— Здравствуйте, — воскликнула она. — Не можно, а нужно! — и, наклонившись надо мной, прошептала: — Вечером приглашаю вас на первую прогулку.
Моя мама всю жизнь проработала в кинематографе, — во время прогулки врал я, естественно, из этой области. Ее интерес вдохновлял меня, и как-то само собой выходило, что я в самых приятельских отношениях со многими знаменитостями: Эйзенштейна называл Сергеем, Пырьева — Иваном, Чаплина — Чарли. Уже кончился населенный пункт Тучапе, а мы все шли, и я все рассказывал. Невдалеке среди поля стоял стог сена.
— Может, устал? — спросила она. — Посидим? Сено было темное, прошлогоднее. Чехи — народ аккуратный, и только война могла помешать им вовремя его убрать. Сели… Я молчал и волновался. Начинало темнеть.
— А дальше.
— Она была погружена в свои мысли. Мне показалось, что самое время обнять ее. Она не оттолкнула меня, не стала вырываться, а только сказала очень спокойно:
— Не надо, не спеши. — И вздохнула.
— Ты очень торопишься. Она поправила свои капитанские погоны в спросила:

Небольшой рассказ, написанный в добрых традициях советской фантастики, с тонким психологизмом и необычным сюжетом путешествия во времени.

Телефонные разговоры. Они так желанны в молодые годы. И так ненавистны обстоятельства, мешающие встретиться с человеком. (Рассказ напечатан в журнале "Спутник" №1, 1970 г.)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рассказы известного кинорежиссера о своем детстве с великолепными иллюстрациями Германа Огородникова.Для дошкольного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.