Литра - [6]
Автор «Слова» — человек высокой культуры, он создает образцовое ораторское произведение, но наполняет его образами устной народной поэзии, вводит сказочных персонажей, создает особый ритм речи. Недаром многие переводчики «Слова» на современный русский язык, чувствуя это, делали не прозаическое, а стихотворное переложение.
Вот так автор, состоящий на службе у князя Игоря, пропиарил не своего непутевого князя, а родину.
Сочинение на тему «Человек, на которого хочется быть похожим»
Такие сочинения раньше часто писали в школе. Сейчас реже.
Интересно, а на кого хотели быть похожими твои древнерусские ровесники? Кто был для них примером? Этого мы не знаем. Но мы знаем, кто должен был стать для них примером, идеальным героем. Сочинения, описывающие идеального героя, назывались житиями, или агиографиями. Жития — жизнеописания праведников, достигших духовного совершенства и причисленных Церковью к лику святых. Сначала в Древней Руси распространялись жития святых, узаконенных греческой (византийской) церковью. Но затем, когда русская православная церковь окрепла, она стала создавать собственный, чисто русский список святых, причислять к лику святых (канонизировать) соотечественников, прославившихся своей праведной жизнью, твердостью в вере, любовью к ближнему, патриотизмом. Эти сочинения предназначались не только для церковников, но и для обычных людей.
Обычно жития строились по канону — то есть по определенному плану. Автор жития начинал с извинений: «Уж простите вы меня, люди добрые, — говорил он, — что я, такой недостойный, грешный и глупый, взялся описывать вам жизнь такого великого человека. Руки бы мне оторвать!» Но потом успокаивался и переходил к рассказу. План был примерно такой: семья — рождение и детство будущего святого — тяга к церкви и праведной жизни — уход в монастырь — духовные подвиги и чудеса — кончина — посмертные доказательства святости. Родители святого были люди праведные, истинно верующие и в таком же духе воспитывали ребенка. Будущий святой рос необычным ребенком: играть с другими детьми не любил, репу не воровал, за девчонками не гонялся. Зато ходил в церковь как на праздник, молился изо всех сил и лет с десяти все порывался уйти в монастырь. Но родители его удерживали. «Рано тебе еще, — говорили они, — подожди, когда помрем». Если они оставляли наследство, то… Нет, вы не поверите: он все раздавал бедным и наконец-то становился монахом. Но и этого ему было мало. Святой обязательно хотел еще и пострадать, и «убить плоть» — то есть голодом и трудом довести себя до того, чтобы в голову уже никакая дурь не лезла. Для этого он удалялся в пустынь (уединенное место), давал обет молчания, ходил в холодной рваной одежде в любой мороз, пил только воду и ел хлебные корки — да и того ему было много. И за это ему было счастье: у него появлялся чудесный дар. Он мог, например, исцелять больных и предвидеть будущее, останавливать врагов у стен монастыря или молитвой вызывать дождь в засуху. Свою кончину он тоже предвидел и, прежде чем умереть, призывал к себе других монахов и произносил речь. И когда он умирал, то на лице его была написана радость: наконец-то! Заключалось житие описанием посмертных чудес, потому что чудеса — признак святости. Самым простым чудом считалось нетление, то есть тело святого не разлагалось даже через многие годы, напротив, от него исходило благоухание. Но обычно посмертные чудеса были намного чудеснее: святой мог явиться в нужный момент и оказать помощь монастырю, а то и разогнать вражеское войско.
Так иронично может воспринимать житие человек в наше растрепанное время. Но Древняя Русь жила по своим законам, и каким бы плохим ни был человек, он все же ощущал себя частью Церкви. Он признавал ее моральный авторитет, верил в чудеса, и святой был для него действительно святым.
Понятно, что реальные жития не писались под копирку и могли сильно отличаться друг от друга. Например, в житии Стефания Пермского количество чудес было сведено к нулю. Святые проживали разные жизни, и жития выходили непохожие.
А что делать, если святой был не монахом, а князем? Ведь князь в Древней Руси — прежде всего воин. А христианская святость и война, оружие, убийство — вещи несовместимые. Как в таких случаях поступал автор, которому было поручено составить повесть о святой жизни князя?
В XIII веке было написано житие князя Александра Невского. Мы его знаем как талантливого полководца. Храбрым воином, одержавшим блистательные победы, искусным дипломатом, умевшим договариваться с монгольскими ханами, и твердым в вере христианином, отстоявшим свои религиозные убеждения в споре с посланцами папы Римского, предстает новгородский князь. Автор постоянно подчеркивает: с мечом в руке Александр отстаивал русское православие от «римского», «неправильного» христианства, самостоятельность русской церкви — от посланцев папы римского. Не очень важно, был ли таким Александр на самом деле. Ведь цель автора — создать идеальный образ, пример другим князьям и всем людям, показать, что прожить праведную жизнь можно не только в стенах монастыря, но и в миру.

Сразу скажу, чего не будет в этой книжке. В ней не будет рассказов о военных подвигах и описаний великих сражений. В ней не будет биографий великих полководцев.Военные подвиги совершаются на грани жизни и смерти. Если солдат или офицер оказались на этой грани, это значит, что его командиры совершили ошибку. Если солдат закрывает своей грудью товарища, он, конечно, герой. Но кто-то виноват в том, что оба они оказались под пулями противника. Изнанка подвига — чья-то халатность, трусость или дурость.О великих битвах и великих полководцах написано много и подробно.
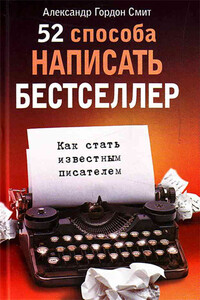
Книга известного издателя Великобритании Александра Гордона Смита включает эффективные идеи и полезные советы, которые помогут вам стать востребованным писателем. Увлекательное и вдохновляющее изложение автора дает возможность понять, в каком направлении двигаться дальше, если вы только вышли на тернистый путь написания книги или остановились на перепутье. Книга предоставит вам шанс создать произведение, основываясь на собственных эмоциях и мыслях, избегая штампов и банальностей. Рекомендации автора, основанные на его личном опыте писателя, редактора и издателя, помогут вам создать свое художественное произведение и написать настоящий бестселлер.
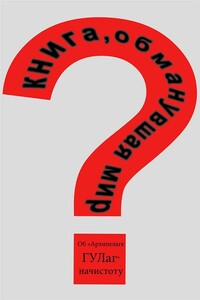
Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.
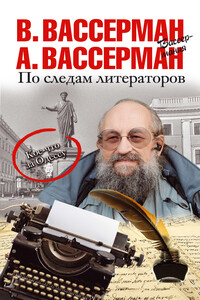
Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.
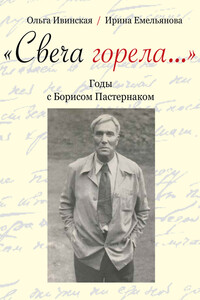
«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной◦– Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара из моего произведения, которое я именно в то время начал писать… Она◦– олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…»Из переписки Б. Пастернака, 1958««Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость»,»◦– так писал Пастернак о своей любимой героине романа «Доктор Живаго».
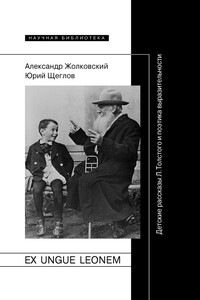
В книге впервые собран представительный корпус работ А. К. Жолковского и покойного Ю. К. Щеглова (1937–2009) по поэтике выразительности (модель «Тема – Приемы выразительности – Текст»), созданных в эпоху «бури и натиска» структурализма и нисколько не потерявших методологической ценности и аналитической увлекательности. В первой части сборника принципы и достижения поэтики выразительности демонстрируются на примере филигранного анализа инвариантной структуры хрестоматийных детских рассказов Л. Толстого («Акула», «Прыжок», «Котенок», «Девочка и грибы» и др.), обнаруживающих знаменательное сходство со «взрослыми» сочинениями писателя.
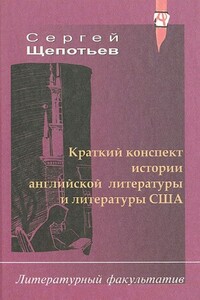
Перед вами не сборник отдельных статей, а целостный и увлекательный рассказ об английских и американских писателях и их книгах, восприятии их в разное время у себя на родине и у нас в стране, в частности — и о личном восприятии автора. Книга содержит материалы о писателях и произведениях, обычно не рассматривавшихся отечественными историками литературы или рассматривавшихся весьма бегло: таких, как Чарлз Рид с его романом «Монастырь и очаг» о жизни родителей Эразма Роттердамского; Джакетта Хоукс — автор романа «Царь двух стран» о фараоне Эхнатоне и его жене Нефертити, последний роман А.