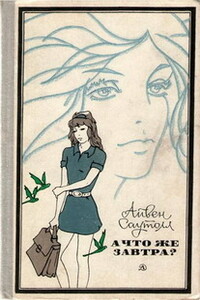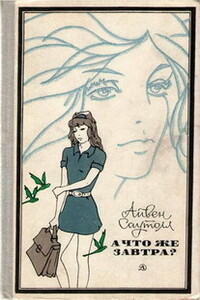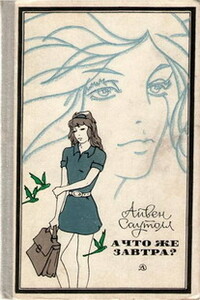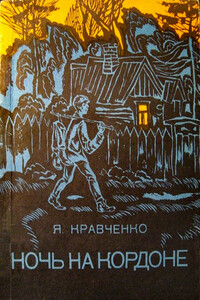Они уставились на него во все глаза.
— Откуда там может быть золото? Даже русло ручья трижды перевернули кверх дном. Трижды! Нет там никакого золота. С нами ничего подобного случиться не может. Зачем обращать внимание на впавшего в истерику ребенка? Он и в жизни-то своей не видел золота.
Но выражение его лица менялось; в глазах разгорался огонь. Его жена молчала; молчали дети; даже Фрэнси не произнесла ни звука. Руки его были в непрерывном движении, что было так не похоже на него; он забыл про свои порезы. Потом задвигались ноги, он не мог устоять на месте.
— Но человек наделен инстинктом верно? — чуть заикаясь, спросил он. — Этот инстинкт живет в нем. Есть в человеке и чувство. Иногда мы знаем то, о чем нам никогда не говорили. Вот, например, золото. Даже при одном упоминании о нем кровь в жилах начинает бегать быстрее. Даже ребенок способен распознать золото, хотя никогда раньше его не видел. Мальчишка прав, знаешь? Прав инстинктивно. Я тоже это чувствую. Чувствует и он. — Язык его перестал поспевать за мыслями, слова стали неразборчивыми, он замолчал.
Непонятно почему, но Джоан вовсе не понравилась происходящая в отце перемена.
— Мамочка! — сказала она, схватив мать за руку, но когда мама посмотрела на нее, она заметила, что и у мамы какой-то странный вид.
— Мы теперь богатые, — возбужденно засмеялся дядя Боб. — Именно мы, а не кто другой. Золото там. Я чувствую его. Всем телом. Мальчишка нашел золото.
— Подожди, папа, — в полной растерянности остановил его Хью. (Он не понимал, что происходит.) — А как же Кен, папа? Ты должен вытащить Кена. Давай я схожу к Бэйрдам. Без чужой помощи нам его не вытащить.
— Кен внизу в норе! — закричала Фрэнси. — Мне не нравится, что Кен внизу в норе!
— Я иду за помощью, — объявил Хью, — Я не хочу, чтобы Кен сидел в Лисьей норе.
— Никуда не ходи! Если мне не нужны были Бэйрды раньше, то теперь я нуждаюсь в них еще меньше. Мы поднимем его, когда придет время. У него все в порядке. Ничего с ним не случится.
— Но, папа… Ты сам сказал, что дно может опуститься.
— Если оно до сих пор не опустилось, то и дальше не опустится. — Дядя Боб стоял подбоченившись, лоб нахмурен, с обеих сторон рта глубокие борозды.
— Мам!
— Да, Хью?
Когда она повернулась к нему, картина была та же самая: как-то непривычно выглядели ее рот, глаза и лоб. Человеку с такой маской на лице объяснять что-либо бесполезно. Протест замер у него на губах, не превратившись в слова. И мама не спешила с ответом. Она смотрела на него, но его не видела. Она даже не заметила, что Джоан отпустила ее руку и готова была вот-вот заплакать.
Детям стало страшно. То, что происходило, им явно было не по душе.
Мама и папа куда-то исчезли, забыв о детях. Они были все вместе в порубленных секачом зарослях ежевики, все поцарапанные, в разорванной одежде, но дети и взрослые стали друг другу чужими. Мужчина засмеялся, почти смущенно; женщина посмеивалась.
— Теперь я могу пойти и купить все, что моей душе угодно, — сказала она.
— Никакой борьбы за существование, — заявил он, — никаких глупых стишков на глупых рождественских открытках. Никаких больше усмешек на лице моей драгоценной сестрицы.
— Они вовсе не глупые, твои рождественские открытки, — возмутилась Джоан. — Они очень даже красивые.
Мужчина и женщина посмотрели друг на друга и обменялись странной-престранной улыбкой.
— Мы стали богатыми.
— Что значит «богатыми»? — заверещала Фрэнси.
До ушей Кена снова донесся голос сверху:
— Ты обвязался веревкой?
Он не ответил и только поигрывал лучом фонаря, наслаждаясь мерцанием вкраплений. Это было прекрасно.
— Послушай, молодой человек, твоя мама не очень-то обрадуется, когда я расскажу ей, как ты себя вел!
На мгновение Кена охватил страх.
— Я не виноват в том, что очутился здесь, — возразил он. — Виноваты вы.
— Не будем говорить о том, кто виноват. Ты что, хочешь остаться заживо погребенным в этой жиже? Счастье не вечно. Пойдешь на дно, как кирпич.
Голос был суровым, и Кен удивленно поднял глаза. Не похоже на дядю Боба, но силуэт в прямоугольнике света оставался прежним: та же голова, те же плечи. Однако что-то в его словах, в его тоне напомнило Кену его мать. Смотреть наверх было трудно.
— Я не могу надеть веревку, — мрачно заявил он.
— Говори громче. Я не слышу.
— Мне больно. Я не могу надеть веревку.
— Ты, должно быть, крупнее, чем мне казалось. Я сделаю петлю побольше.
— Мне больно.
— Что?
— Мне больно. Больно.
— Не может быть. Только не сейчас, пожалуйста.
— У меня болит грудь. Я посмотрел, она вся в синяках. Прямо черная. И болит все больше и больше.
Голова и плечи исчезли. Их не было долго. Полминуты, минуту, а то и целых две минуты.
Время тянулось, и Кена стало лихорадить. Нельзя сказать, что в шурфе было холодно, но зато как-то сыро и безмолвно. Стояла мертвая тишина: ни топота, ни шуршанья, ни хлюпанья.
Ему показалось, что все вдруг остановилось. С реальным, живым миром его связывала лишь составленная из длинных и коротких, из толстых и тонких концов веревка с петлей, которая падала с неба к его ногам, как свисает со столба оборванный телефонный кабель, когда все телефоны в округе перестают работать.