Лейтенанты - [4]
Стрелков командами и матом подняли из канавы. Артамонов погнал вперед и нас — “безминометных”.
— Вперед! — орали стрелковые командиры.
— Вперед! — орал Артамонов.
Под командирские вопли: “Шире шаг! Не сбивайся в кучу! Интервал семь-восемь метров!” — никто и не думал бежать вперед. Все еле передвигали ноги, то и дело припадая к земле. Далеко не ушли. Я даже не успел начать перебежку, как в нас хлестнул ливень огня. Цепь мгновенно распласталась. Мелькнуло несколько фигурок — то ли назад побежали, то ли искали место безопаснее.
Я еще не улавливал разницу. Осколок, фыркнув, шлепнулся рядом. Почему-то никто не окапывался, хотя у всех лопатки были наготове — не в чехлах, а в руках или за ремнем. Многие и в цепи так шли: в одной руке винтовка,
в другой лопатка.
Кучеренко, видя мое недоумение, объяснил, что он сейчас отойдет. Действительно, немцы ушли. Кучеренко не угадывал, знал по опыту: если немцам надо отойти, прикрываются минометами (те из глубины стреляют), а в это время стрелки и пулеметчики уходят в тыл, на новый рубеж, и ждут нас там.
Так все и получилось. Мы перешли поле под минными разрывами. Бывшую его посадку заняли, а дальше он не пустил. Трассирующие очереди стригли траву — казалось бы, верная гибель для неокопавшейся пехоты. Но светящиеся пули легче обычных. Огненные струи, ударяясь в бугорки и кочки, взлетали и легко рассыпались на полпути . А вот невидимые пулеметные очереди не давали поднять головы, и батальон обозлился. Укрываясь в ямках, прижимаясь к земле, стрелки, пулеметчики и минометчики патронов не жалели. Фриц вывел Ивана из себя. Долбили “максимы”, трещали ручные “дегтяри”, часто-часто хлопали винтовки.
Мне стрелять не из чего. До сих пор не выдали ни пистолета, ни автомата. Бойцы ползком притащили мне карабин. “Где взяли?!” — “С земли”. Позже
я увижу, что на поле боя всегда можно найти что-нибудь стреляющее — наше и немецкое — на любой вкус. Дождавшись темноты, в ближайший овражек приехала кухня с обедом, он же ужин. Есть на ощупь — привыкнуть непросто. К тому же давила тревога: вот-вот что-то случится.
Стараясь не шуметь, в овражек поочередно потянулись роты. Во мраке вполголоса переговаривались еле различимые тени. Что-то осторожно позвякивало. Наверное, ложки о котелки… Машинально прислушиваясь, я понял: тени не разговаривали, они и не слышали друг друга. Они вяло и бессмысленно матерились. Люди так ослабели, что еле волочили ноги. Как я их понимал!
Я тоже стал тенью.
Кучеренко принес тепленький пустой суп и разномастные черные сухари.
На завтрак было то же самое. “Суп рататуй, — говорили бойцы. — Кругом вода, посередке х..”. Хлебнув несколько ложек, я почувствовал, что ничего не хочу. Не помогли вымоченные в баланде сухари и даже “наркомовские” водочные граммы. Я всякий раз любовался тем, как старшина разливал водку “по булькам”. Он делал это ловко и честно. Любителям проскочить в темноте по второму разу оставалось только втихую поносить его: старшинский глаз был зорок, а кулак увесист.
Старшина обнадежил офицеров, что завтра привезет мины: “Рота делом займется, а то людей побило ни за хрен”. Мне стало неловко: только сейчас дошло, что это в нашем взводе лишь двое раненых, а в двух соседних —
у Козлова и Мясоедова — есть тяжелораненые и даже убитые. У пулеметчиков погиб командир взвода. Откуда он и как его звали, никто не знал — прибыл в роту этой ночью. Говоря о потерях, называли фамилии, но как-то между прочим. А то и так: “Ну, чернявый. Один глаз косой”. Стало не по себе от подобного равнодушия. Постепенно я понял, что человечность передовой не в причитаниях — что случилось, уже произошло, а в том, чтоб при общей нехватке табака оставить соседу “сорок”, рискуя головой, помочь раненому, предостеречь от опасности... А по поводу остального: “Живы будем, не помрем!”
“Там, где убило командира, был настоящий бой, — понял я. — Не то что у нас”. Если б мне сказали, что именно наш взвод провел день в центре на-ступления, ни за что бы не поверил: “Какой же это бой? Тыр-пыр, тыр-пыр...
Водка взяла свое. У старшины за счет раненых и убитых нашелся добавок, и я позорно раскис. От меня, офицера, недавнего курсанта-отличника, сегодня толку было как от козла молока. Привезет старшина мины, а что я, лейтенант Николаев, буду с ними делать? Все прячутся. Как найти его пулемет? Куда он спрятал минометы? Этому командиры-преподаватели в училище научить не могли — сами не знали.
Артамонов на все мои вопросы отвечал: “Сам все увидишь”. И теперь отмахнулся:
— Ладно тебе, Новиков, голову ломать.
— Я Николаев.
Ротный упорно называл меня Новиковым — юмор начальства.
“Старики” моего взвода учили меня лишь своим тонкостям. А их оценка действий командира сводилась к одному: “Жалеет он людей или нет”. Вчерашний опыт немножко, но помог. Происходящее оценивалось осмысленнее. Но вместо боя по-прежнему — бестолковая канитель. На этот раз немцы занялись нами всерьез — батальон попал под такой минометный удар, что в душе дрогнуло, и я подумал: “Живыми не выберемся...” Кучеренко закричал мне после первых же разрывов, чтоб я глубже закапывался в канаву! С неба — мгновенно нарастающий звук раздираемой ткани и — трескучие разрывы. Визг осколков и тающие облачка дыма с пылью. Россыпью — по полю. Земля в канаве оказалась мягкой, и я быстро зарылся чуть ли не в рост. Над канавой вперекрест с визгом проносились осколки. Из ближайших воронок принесло кислую пороховую вонь. Как с цепи сорвавшиеся, заливались очередями немецкие “эмга”...
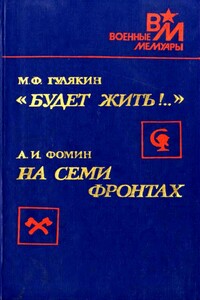
Известный военный хирург Герой Социалистического Труда, заслуженный врач РСФСР М. Ф. Гулякин начал свой фронтовой путь в парашютно-десантном батальоне в боях под Москвой, а завершил в Германии. В трудных и опасных условиях он сделал, спасая раненых, около 14 тысяч операций. Обо всем этом и повествует М. Ф. Гулякин. В воспоминаниях А. И. Фомина рассказывается о действиях штурмовой инженерно-саперной бригады, о первых боевых делах «панцирной пехоты», об успехах и неудачах. Представляют интерес воспоминания об участии в разгроме Квантунской армии и послевоенной службе в Харбине. Для массового читателя.
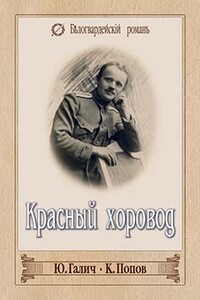
Генерал Георгий Иванович Гончаренко, ветеран Первой мировой войны и активный участник Гражданской войны в 1917–1920 гг. на стороне Белого движения, более известен в русском зарубежье как писатель и поэт Юрий Галич. В данную книгу вошли его наиболее известная повесть «Красный хоровод», посвященная описанию жизни и службы автора под началом киевского гетмана Скоропадского, а также несколько рассказов. Не менее интересна и увлекательна повесть «Господа офицеры», написанная капитаном 13-го Лейб-гренадерского Эриванского полка Константином Сергеевичем Поповым, тоже участником Первой мировой и Гражданской войн, и рассказывающая о событиях тех страшных лет.
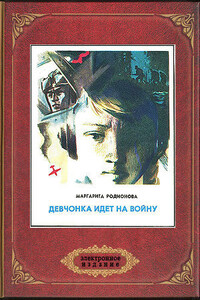
Маргарита Геннадьевна Родионова. Девчонка идет на войну. Повесть. Изд.1974г. Искренняя, живая повесть о "юности в сапогах", о фронтовых буднях, о любви к жизни и беззаветной верности Родине. Без громких слов и высокопарных фраз. От автора: Повесть моя не биографична и не документальна. Передо мной не стояла цель написать о войне, просто я хотела рассказать о людях, смелых и честных, мужественных и добрых. Такими я видела фронтовиков в годы моей юности, такими вижу их и сейчас. Эта книга — дань уважения боевым товарищам, которые с черных лет войны по сей день согревают жизнь мою теплом бескорыстной и верной фронтовой дружбы.
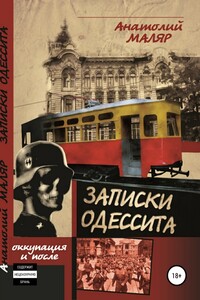
Книга повествует о жизни обычных людей в оккупированной румынскими и немецкими войсками Одессе и первых годах после освобождения города. Предельно правдиво рассказано о быте и способах выживания населения в то время. Произведение по форме художественное, представляет собой множество сюжетно связанных новелл, написанных очевидцем событий. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся Одессой и историей Второй Мировой войны. Содержит нецензурную брань.
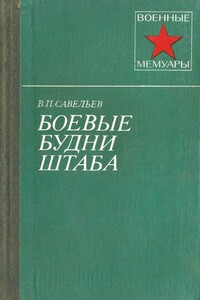
В августе 1942 года автор был назначен помощником начальника оперативного отдела штаба 11-го гвардейского стрелкового корпуса. О боевых буднях штаба, о своих сослуживцах повествует он в книге. Значительное место занимает рассказ о службе в должности начальника штаба 10-й гвардейской стрелковой бригады и затем — 108-й гвардейской стрелковой дивизии, об участии в освобождении Украины, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. Для массового читателя.
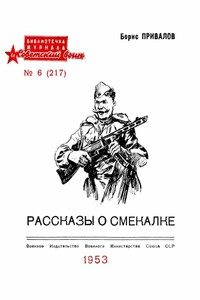
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.