Левитан - [3]
К этому народу относятся и заключенные в одиночках, только те, что впервые попали в тюрьму, этого долго не понимают. Для нижней тюремной оценки позорно: если ты получил меньше трех лет, если «стучишь» (доносишь), если кланяешься надсмотрщикам и начальству, если плачешь, показываешь страх перед наказаниями, ешь свою передачу в каком-нибудь углу сам и — нельзя осуждать похабщину, потому что этим ты нарушаешь некое естественное течение вещей, древнее право и обычай, да к тому же и необходимость. Все, что этому противоположно, оценивается как «похвально». По оценочной шкале каждый куда-нибудь да определен, не охвачены могут быть лишь единицы — сумасшедшие и герои.
Когда я, абсолютно не готовый к таким интересным событиям, оказался в следственной одиночке, мне и не снилось, сколько мне еще предстоит учиться. Сколько тюремных предметов к каждому экзамену! Как тяжело добраться до диплома в этом университете. У руководителей Ганы на фуражках буквы P. G., что значит «prison graduated»[2]. Неслыханная дерзость. Неру в крепости Ахматнагар отсидел всего-навсего каких-то одиннадцать лет. В Италии же в 1950 году выпустили некого Джузеппе Баранко, оттрубившего пятьдесят лет. Когда у него спросили, что его больше всего удивило, когда он вышел на свободу, он сказал: женщины на велосипедах. А знаете, что ему представлялось, когда он смотрел на мелькающие бедра красавиц на колесах? Настоящий арестант! Prison graduated! Когда умирал у нас на глазах в общей камере тюремного госпиталя старый чахоточный шахтер Меглич, он сказал вечером перед смертью: «Вот увидите, я еще выкарабкаюсь. Я уже дважды был одной ногой в могиле. И еще раз из нее выберусь. А потом продам дом, пашни и лес, да все, что у меня есть, — и отдам какой-нибудь молодой девчонке все деньги, чтобы она разделась догола и встала раком — и поссала. Только бы это еще увидеть, а потом можно и умереть». А ведь старый Меглич был чертовски скуп на еду из передач, посланных сестрой. И сигареты у него не выпросишь.
В незримую школу тюремной жизни ходит каждый, знает он об этом или нет, и каждый сдает экзамены: выдержит или провалится — зависит от того, поймет или нет. Даже самый зеленый новичок в своей первой следственной одиночке. Сначала я думал, что нет большего одиночества в мире, чем в этих четырех стенах, два метра на четыре, высотой метров пять, железная постель с соломенным тюфяком, складной столик у стены, табурет, кувшин с водой, ржавая параша в углу у двери, абсолютно гладкая дверь и окошко там, высоко наверху, дважды зарешеченное — сначала толстыми крестами, потом еще сеткой. Да, еще батарея с пятью секциями рядом с парашей. Наверно, снаружи солнечное утро. Тишина внутри. Давит в висках. И ни одной сигареты. Первых пять лет тяжело. И разве я тогда думал о годах и годах, открывающихся передо мной как длинный черный коридор, о годах и годах тяжелой каторги, именуемой «тяжелыми принудительными работами». Меня или выпустят — или убьют, — так размышлял я. А скорее всего меня хотят хорошенько напугать. И как они меня могут судить всего-навсего из-за тех шуточек, что я отпускал на их счет? До войны — революционно настроенный студент, во время войны — партизан. Конечно, они спросят меня: зачем я отпускал те шуточки, — и будет тяжело ответить. Как объяснить, что поднимается в свободолюбивом человеке, когда он видит надменных всемогущих? Конечно, к этому примешивалось и немного задиристости. Никто не смеет рта раскрыть. Герои мы или нет? И еще рюмку коньяка! Нажил я себе врагов, хоть выстраивай в очередь, многих я знавал. Много псов — смерть зайцу! Самую дьявольски острую шутку мы выпустили в свет прошлым вечером. Позвонили одному высокопоставленному знакомому: знаешь, вот только что швейцарское радио сообщило, что Тито ушел в отставку. Было же это вскоре после знаменитого Информбюро[3], и что-то действительно витало в воздухе — тут и началась беготня, и замелькали бледные лица, республиканское правительство «лопнуло» и почти что сбежало, как мы узнали гораздо позднее. Но почему, спрашивается, эти черти поверили? Ведь прежде таким шутникам, как я, они не верили, даже если могли это потрогать. А теперь якобы зашатались аж две республики из шести из-за какой-то нашей не самой блестящей выдумки на девяносто седьмой рюмке. Это был один из тех проклятых вечеров, когда мы всё болтали и болтали о философии и искусстве, вместо того чтобы оседлать какую-нибудь из тех пылких девиц, которые тогда после войны сами летели прямо к нам в объятья. Во время следствия отрабатывали и эти мои грешные дела, со всей завистью и моральным негодованием чистеньких людей, и тогда у меня была прекрасная возможность вспомнить каждую с благодарностью. Политика была для меня тогда, собственно, по сути дела чем-то, пахнущим дешевым мылом, завернутым в вонючие, грязные подштанники какого-то чиновника, у которого нет времени на половую самореализацию. Только арест и его всеобъемлющая школа научили меня тому, что такое политика. Тогда я сознал, какая розовая наивность была во мне прежде, когда я недооценивал политику, и мне стало стыдно перед самим собой. Когда я до войны бастовал в университете и выкрикивал что-то против несправедливости. Когда я дрался с королевскими легавыми. Когда я позволил пролиться скупым слезам при падении Югославии. Когда я, будучи в партизанах, убеждал крестьян. Когда я нападал на новый порядок после революции. — Надушенные свежие кальсоны!
![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)
Книга состоит из сюжетов, вырванных из жизни. Социальное напряжение всегда является детонатором для всякого рода авантюр, драм и похождений людей, нечистых на руку, готовых во имя обогащения переступить закон, пренебречь собственным достоинством и даже из корыстных побуждений продать родину. Все это есть в предлагаемой книге, которая не только анализирует социальное и духовное положение современной России, но и в ряде случаев четко обозначает выходы из тех коллизий, которые освещены талантливым пером известного московского писателя.

Эти дневники раскрывают сложный внутренний мир двадцатилетнего талантливого студента одного из азербайджанских государственных вузов, который, выиграв стипендию от госдепартамента США, получает возможность проучиться в американском колледже. После первого семестра он замечает, что учёба в Америке меняет его взгляды на мир, его отношение к своей стране и её людям. Теперь, вкусив красивую жизнь стипендиата и став новым человеком, он должен сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.

Тревожные тексты автора, собранные воедино, которые есть, но которые постоянно уходили на седьмой план.

Роман современного шотландского писателя Кристофера Раша (2007) представляет собой автобиографическое повествование и одновременно завещание всемирно известного драматурга Уильяма Шекспира. На русском языке публикуется впервые.

Судьба – удивительная вещь. Она тянет невидимую нить с первого дня нашей жизни, и ты никогда не знаешь, как, где, когда и при каких обстоятельствах она переплетается с другими. Саша живет в детском доме и мечтает о полноценной семье. Миша – маленький сын преуспевающего коммерсанта, и его, по сути, воспитывает нянька, а родителей он видит от случая к случаю. Костя – самый обыкновенный мальчишка, которого ребяческое безрассудство и бесстрашие довели до инвалидности. Каждый из этих ребят – это одна из множества нитей судьбы, которые рано или поздно сплетутся в тугой клубок и больше никогда не смогут распутаться. «История Мертвеца Тони» – это книга о детских мечтах и страхах, об одиночестве и дружбе, о любви и ненависти.
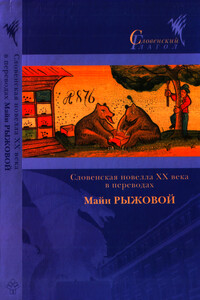
Книгу составили лучшие переводы словенской «малой прозы» XX в., выполненные М. И. Рыжовой, — произведения выдающихся писателей Словении Ивана Цанкара, Прежихова Воранца, Мишко Кранеца, Франце Бевка и Юша Козака.
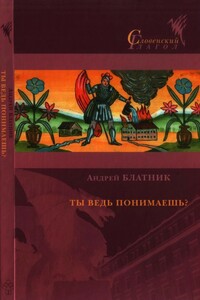
«Ты ведь понимаешь?» — пятьдесят психологических зарисовок, в которых зафиксированы отдельные моменты жизни, зачастую судьбоносные для человека. Андрею Блатнику, мастеру прозаической миниатюры, для создания выразительного образа достаточно малейшего факта, движения, состояния. Цикл уже увидел свет на английском, хорватском и македонском языках. Настоящее издание отличают иллюстрации, будто вторгающиеся в повествование из неких других историй и еще больше подчеркивающие свойственный писателю уход от пространственно-временных условностей.

Словения. Вторая мировая война. До и после. Увидено и воссоздано сквозь призму судьбы Вероники Зарник, живущей поперек общепризнанных правил и канонов. Пять глав романа — это пять «версий» ее судьбы, принадлежащих разным людям. Мозаика? Хаос? Или — жесткий, вызывающе несентиментальный взгляд автора на историю, не имеющую срока давности? Жизнь и смерть героини романа становится частью жизни каждого из пятерых рассказчиков до конца их дней. Нечто похожее происходит и с читателями.
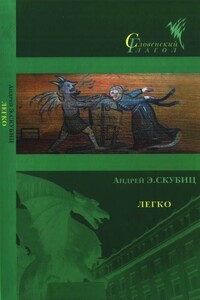
«Легко» — роман-диптих, раскрывающий истории двух абсолютно непохожих молодых особ, которых объединяет лишь имя (взятое из словенской литературной классики) и неумение, или нежелание, приспосабливаться, они не похожи на окружающих, а потому не могут быть приняты обществом; в обеих частях романа сложные обстоятельства приводят к кровавым последствиям. Триллер обыденности, вскрывающий опасности, подстерегающие любого, даже самого благополучного члена современного европейского общества, сопровождается болтовней в чате.