Левитан - [5]
Возраст — от восемнадцатилетних желторотиков, которые еще узнают, что здесь правит политика, и до 85-летнего отца Ноча из какой-то горной деревушки, который дал поесть каким-то «новым партизанам», сказавший на суде, что «и во время войны давал поесть партизанам» и что политикой никогда не интересовался. Пятнадцать лет получил. Но злило его не это, он никак не мог переварить то, что у него забрали трубку. Поскольку это был костлявый упрямый мужик, высокий, с крепкими зубами, и в тюрьме он тоже жил на свой лад. Когда надзиратель предупреждал его насчет чего-либо, Ноч его мерил взглядом с головы до пят и спрашивал: «А тебе чего здесь надо?» Старый Ноч тоже политики никогда не понимал.
Теперь эти замечательные времена прошли. Полиция меньше избивает и боится скандалов. Суды получили кое-какую самостоятельность, больше не ложатся на стол судьи «бумаги сверху» с предписанными годами каторги, где всем «заправляет» бывший столяр. О политических промахах пишет периодика. Даже лживую «чистую» гендерную мораль прогресс выбросил на помойку. Бары оснащены внутренним стриптизом. Женские тела заполонили все газеты. В фильмах появляются сцены, способные повергнуть в глубокое разочарование не одну западную цензуру. С проституцией мы ведем себя как с гриппом. У нас есть хулиганы, молодежный криминал, хиппи, наркоманы, групповые оргии и церковные праздники, прописанные в календаре. Компании весьма уважаемых граждан у себя дома репетируют порнографические фильмы. Гонка за стандартом задушила страсть к политическим разговорам. Между правительством (администрация) и народным мнением (см. тюремный народ) протекает широкая река стандарта и уносит души индивидуумов в бездну менеджерской болезни.
Я отклонился от темы намеренно, чтобы потом некоторые вещи были более понятны. Сейчас я возвращаюсь на годы и годы назад, в одно солнечное утро, когда я, непроспавшийся и неопохмелившийся, голым был разбужен в своей постели и увидел четыре направленных на меня револьвера, ближайшим из которых был американский автоматический кольт 45-го калибра.
2
Все развивалось с головокружительной быстротой и крайне нервно. И очень скупо на слова. «Ни одного лишнего движения!» «Где ваше оружие?» То, что ко мне обращаются на «вы», возбудило во мне легкую надежду, но голова шла кругом от выпитого прошлой ночью. Они не опускали револьверов, пока я надевал то, что снял с себя, когда теплой ночью отправлялся спать. «Давай! Давай!» По дороге я отщипнул кусочек печенья, чтоб не отправляться на смерть натощак. Но понял, что у меня нет слюны. Я пережевывал этот кусочек, будто это был песок, и с трудом по чуть-чуть смог проглотить его.
И мы пошли. Они вели меня перед собой. Из комнаты в коридор, на лестничную площадку и вниз по лестнице. Тогда появилось искушение — на мгновенье, — но ведь, воистину, мгновенье иногда может быть очень долгим. На очередной лестничной площадке зияло широко открытое окно. Сколько раз я прыгал с разбега через ограду с головой в воду. Внизу был затвердевший слежавшийся песок. Четвертый этаж. Высокие потолки. Успех гарантирован. Или позволить им вести меня, как скотину на бойню? Этим тварям. Нигде ни души. Что они сделают со мной, когда отведут в надежное место! Ведь все мы наслышаны об их методах! Ненавидят меня, как черного пса. Только пару недель назад мы в ресторане подрались с охранниками. Одному майору я так врезал, что тот рухнул. Как он мне будет рад! (Позднее мы встретились с этим майором — но и он был арестован; исхудавший, удрученный, тогда он мне показался одним из лучших арестантов; у него был твердый характер, и я просто должен был себя сдерживать, чтобы не испытывать к нему симпатию. За что сидел? Выпить любил и невесть что нес.) И ведь именно этот майор чуть было не отправил меня за окно! Мгновенье длинно, годы коротки. Черт его знает, может, от прыжка меня спасло еще какое-то прирожденное свойство, за которое по жизни я уже столько раз дорого расплачивался — любопытство, а что будет? Дилемма была столь трудной, что, когда я с этими «товарищами» шагал вниз по лестнице, меня пронзило чувство раскаянья и тело мое отяжелело. Пронзила меня и злобная мысль: если б я выскочил, никто бы в нашем городе не поверил, что это не они меня «выскочили», такой славой они тогда пользовались. А я был известен и знаменит в своем родном городе — скорее благодаря авантюрам, скандалам и злобному языку, чем своему творчеству и таланту. Как исключительно разумное животное я, собственно, чертовски ленив, но зато очень быстро замечаю чужие недостатки и ошибки и умею — как раз злобно и иронично — вещать о них. Получил я и несколько премий за своеобразные, написанные на скорую руку произведения. Мои фотографии были в газетах. Мы развлекались по кабакам, несли что взбредет на ум, залезали на памятники, обольщали женщин и девушек, устраивали скандалы на выставках, влезали в долги и жили, как на Тортуге. Неудивительно, что так можно изо дня в день делать свое имя все более известным. Ночами я все-таки написал и несколько романов, и пьесы, которые никого не интересовали. Несколько издательств заплатили мне гонорар за рукописи, которые так никогда и не были напечатаны. Потом все же вышла какая-то книжица, за которую на меня крепко навалились влиятельные мужи из газет. Это была пьеса, написанная до войны и даже содержавшая идею — «против фашизма». Но идея — согласно диалектике — сработала таким образом, что меня выплюнули «мандарины»: ведь он нападает на «существующий порядок», — и мне даже что-то из пьесы зачитывал прокурор на процессе где-то год спустя после ее выхода в свет. Времени «соцреализма» опус так или иначе не соответствовал, это правда. Я хотел сказать, что все эти истории в городе с тогдашними его 120 тысячами населения сделали мне имя. И об этом я тоже успел подумать тогда, когда смотрел на открытое окно, ведущее в обширные вселенные вечного «ничто».

Роман современного шотландского писателя Кристофера Раша (2007) представляет собой автобиографическое повествование и одновременно завещание всемирно известного драматурга Уильяма Шекспира. На русском языке публикуется впервые.

Судьба – удивительная вещь. Она тянет невидимую нить с первого дня нашей жизни, и ты никогда не знаешь, как, где, когда и при каких обстоятельствах она переплетается с другими. Саша живет в детском доме и мечтает о полноценной семье. Миша – маленький сын преуспевающего коммерсанта, и его, по сути, воспитывает нянька, а родителей он видит от случая к случаю. Костя – самый обыкновенный мальчишка, которого ребяческое безрассудство и бесстрашие довели до инвалидности. Каждый из этих ребят – это одна из множества нитей судьбы, которые рано или поздно сплетутся в тугой клубок и больше никогда не смогут распутаться. «История Мертвеца Тони» – это книга о детских мечтах и страхах, об одиночестве и дружбе, о любви и ненависти.

Автобиографичные романы бывают разными. Порой – это воспоминания, воспроизведенные со скрупулезной точностью историка. Порой – мечтательные мемуары о душевных волнениях и перипетиях судьбы. А иногда – это настроение, которое ловишь в каждой строчке, отвлекаясь на форму, обтекая восприятием содержание. К третьей категории можно отнести «Верхом на звезде» Павла Антипова. На поверхности – рассказ о друзьях, чья молодость выпала на 2000-е годы. Они растут, шалят, ссорятся и мирятся, любят и чувствуют. Но это лишь оболочка смысла.
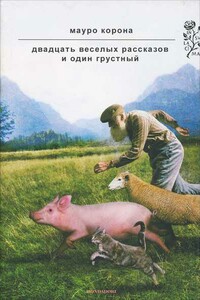
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
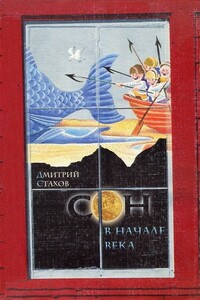
УДК 82-1/9 (31)ББК 84С11С 78Художник Леонид ЛюскинСтахов Дмитрий ЯковлевичСон в начале века : Роман, рассказы /Дмитрий Стахов. — «Олита», 2004. — 320 с.Рассказы и роман «История страданий бедолаги, или Семь путешествий Половинкина» (номинировался на премию «Русский бестселлер» в 2001 году), составляющие книгу «Сон в начале века», наполнены безудержным, безалаберным, сумасшедшим весельем. Весельем на фоне нарастающего абсурда, безумных сюжетных поворотов. Блестящий язык автора, обращение к фольклору — позволяют объемно изобразить сегодняшнюю жизнь...ISBN 5-98040-035-4© ЗАО «Олита»© Д.
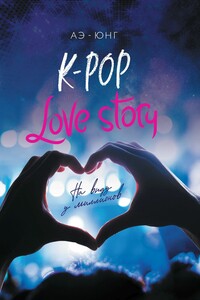
Элис давно хотела поработать на концертной площадке, и сразу после окончания школы она решает осуществить свою мечту. Судьба это или случайность, но за кулисами она становится невольным свидетелем ссоры между лидером ее любимой K-pop группы и их менеджером, которые бурно обсуждают шумиху вокруг личной жизни артиста. Разъяренный менеджер замечает девушку, и у него сразу же возникает идея, как успокоить фанатов и журналистов: нужно лишь разыграть любовь между Элис и айдолом миллионов. Но примет ли она это провокационное предложение, способное изменить ее жизнь? Догадаются ли все вокруг, что история невероятной любви – это виртуозная игра?
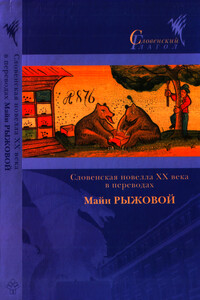
Книгу составили лучшие переводы словенской «малой прозы» XX в., выполненные М. И. Рыжовой, — произведения выдающихся писателей Словении Ивана Цанкара, Прежихова Воранца, Мишко Кранеца, Франце Бевка и Юша Козака.
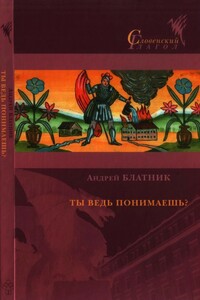
«Ты ведь понимаешь?» — пятьдесят психологических зарисовок, в которых зафиксированы отдельные моменты жизни, зачастую судьбоносные для человека. Андрею Блатнику, мастеру прозаической миниатюры, для создания выразительного образа достаточно малейшего факта, движения, состояния. Цикл уже увидел свет на английском, хорватском и македонском языках. Настоящее издание отличают иллюстрации, будто вторгающиеся в повествование из неких других историй и еще больше подчеркивающие свойственный писателю уход от пространственно-временных условностей.

Словения. Вторая мировая война. До и после. Увидено и воссоздано сквозь призму судьбы Вероники Зарник, живущей поперек общепризнанных правил и канонов. Пять глав романа — это пять «версий» ее судьбы, принадлежащих разным людям. Мозаика? Хаос? Или — жесткий, вызывающе несентиментальный взгляд автора на историю, не имеющую срока давности? Жизнь и смерть героини романа становится частью жизни каждого из пятерых рассказчиков до конца их дней. Нечто похожее происходит и с читателями.
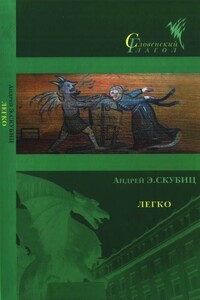
«Легко» — роман-диптих, раскрывающий истории двух абсолютно непохожих молодых особ, которых объединяет лишь имя (взятое из словенской литературной классики) и неумение, или нежелание, приспосабливаться, они не похожи на окружающих, а потому не могут быть приняты обществом; в обеих частях романа сложные обстоятельства приводят к кровавым последствиям. Триллер обыденности, вскрывающий опасности, подстерегающие любого, даже самого благополучного члена современного европейского общества, сопровождается болтовней в чате.