Левитан - [19]
Я сидел на табурете, уставившись перед собой. Произошло что-то необъяснимое. Человек — до невероятности домашнее существо. Возможно, даже на задворках нижних кругов ада он создает себе «дом». Только сейчас я осознал, что камера потихоньку и незаметно стала моим «домом». После вторжения варваров она им больше не была. На меня обрушилась настоящая тоска по дому. Снова открылось окошко. Я подумал, что должен отдать котелок и ложку. Но в окошке было другое лицо, спросившее: «Вы с именем?» Я не понял. «Вам разрешено называть имя?» А почему нет? И окошко снова закрылось. Проклятые загадки! Сосед объяснил мне, что некоторые арестанты означены номером, и под угрозой смерти им запрещено кому-либо — даже надзирателю — называть свое имя. Ну и хороши же пределы, которые я отправился осваивать! Нашествие этих гуннов и это открытие наполнили камеру ощущением тесноты. Потом еще одна проклятая новость через стену: следить, нет ли в еде в песок раскрошенного стекла, протрясти котелок, вылить в парашу, исследовать осадок на дне, не поблескивает ли что. Сегодня я могу сказать, что все это было надуманно — но я хорошо помнил, как в России Горького отправили на тот свет и каким способом. И это влияло. Моральный дух упал, тени сгустились, члены отяжелели. Все то, что люди говорят, на самом деле правда: у него просто остановилась кровь, он просто окаменел, когда это услышал, ему приспичило посрать, он одеревенел, в глазах почернело. Не будем строить из себя героев! Я присел над этой низкой, заржавевшей парашей с запахом аммиака, — удивляясь неожиданному поносу, — когда открылась дверь: давай! давай! Здесь всегда все ужасно торопятся. На допрос.
С немного закружившейся от событий этого вечера головой я слушал вопрос, действительно меня изумивший: когда я вступил во французскую разведку? Тогда — невежда — я даже не слышал о «deuxième bureau»[15]. Однако я действительно достаточно знал французский, и у меня было несколько знакомых французов, и, кроме того, в те времена я еще ценил «декадентских» французских литераторов от Вийона до Пруста, не говоря уже о некоторых художниках и музыкантах. Следователь мне и рассказал, когда я согласился «сотрудничать»: из биографии, которую мы вдвоем долго и подробно составляли, было ясно, что меня как бродягу без документов арестовала греческая полиция во время облавы в Пирее и что меня из той дыры спасли французские моряки, бывшие тоже там, и что потом я сел на французский корабль, направлявшийся в Стамбул. Из этого логически следует, что я стал французским шпионом. В 1932 году.
Когда меня вернули в камеру, потерявшую всю свою прелесть, я стал ходить взад-вперед, скрипел зубами и костерился. Когда выключили свет, я еще долго смотрел в окно, озаренное прожекторами. Потом я связался с пугливым профессором с другой стороны. Тот рассказал мне, что арестовали и его жену, и дети остались одни. Потому что она ходила заступаться за него. Что она решительная женщина. Надзиратель во время обхода застал меня стоящим у стены, когда посмотрел через глазок. Он открыл окошко для подачи еды и строго приказал: «Спать!» Я лег на пол и накрылся одеялом.
Нет ничего хуже в такой ситуации, чем если человек начнет жалеть себя самого. Я поймал себя на том, с какой горечью представляю себе людей, сидящих по домам или в увеселительных заведениях мира. Я оборвал самого себя: а тебе снилось, каково людям, сидящим под арестом, когда ты развлекался целыми ночами, проклятая морда?! Я распекал себя прямо по списку от труса до телка — я высказал себе все — и вдруг осознал, что я действительно полон слабостей, как нищий вшей, — но среди них нет ни одной, за которую меня следовало бы посадить. Руссо била гувернантка, меня бьет судьба — и если уж я могу сексуально общаться со смертью, то почему бы не попробовать с судьбой. Тот тип, которого я «пытался убить», любил покалеченных женщин. Он похвалился мне, что оприходовал одну такую, что всю жизнь не вставала с коляски для хромых. Почему бы мне этой ночью не оприходовать судьбу? Я представил ее себе как тупую садистку с очень костлявой, высокой фигурой. Никак не получалось, пока я не трансформировал ее в учительницу, которой мы в младших классах заглядывали под юбку, отодвинув фронтальную доску ее стола. Это был жестокий бой за те десять сантиметров черно-коричневых волосяных зарослей. Но ставка была — быть или не быть.
Победа был Пиррова, ибо зажегся свет — и меня вновь отвели на допрос, думая, что я между тем уже уснул. И метод неплохой. Заспанный человек меньше сопротивляется. Сколько тех, кто уже сознался, что они — собственная бабушка, только чтобы их опустили поспать. В заключение ночи я получил несколько спичек — все хорошо, что хорошо кончается. На следующее утро я решил поразмыслить над тем, знала ли та учительница, что мы смотрим ей под юбку, или нет. В памяти у меня хранились точные фотографии всех выражений ее лица и все движения ее ног, в первую очередь бедер. Теперь я уже умею допрашивать, ставить вопросы, соответственно сомневаться, обвинять. Ха, если я вырву из нее признание, то составлю такой протокол, что откупиться она сможет только глубочайшей жертвенностью! Такая надменная, строгая дама! Имя ей — Судьба. Она думает, что все мы будем ползать перед ней на брюхе, только чтобы не поставила двойку. Правда — она сгубила в процентном отношении больше королей, чем нищих, ведь короли принуждают, а мы, нищие, умеем и вынудить.

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.

Если бы у каждого человека был световой датчик, то, глядя на Землю с неба, можно было бы увидеть, что с некоторыми людьми мы почему-то все время пересекаемся… Тесс и Гус живут каждый своей жизнью. Они и не подозревают, что уже столько лет ходят рядом друг с другом. Кажется, еще доля секунды — и долгожданная встреча состоится, но судьба снова рвет планы в клочья… Неужели она просто забавляется, играя жизнями людей, и Тесс и Гус так никогда и не встретятся?

События в книге происходят в 80-х годах прошлого столетия, в эпоху, когда Советский цирк по праву считался лучшим в мире. Когда цирковое искусство было любимо и уважаемо, овеяно романтикой путешествий, окружено магией загадочности. В то время цирковые традиции были незыблемыми, манежи опилочными, а люди цирка считались единой семьёй. Вот в этот таинственный мир неожиданно для себя и попадает главный герой повести «Сердце в опилках» Пашка Жарких. Он пришёл сюда, как ему казалось ненадолго, но остался навсегда…В книге ярко и правдиво описываются характеры участников повествования, быт и условия, в которых они жили и трудились, их взаимоотношения, желания и эмоции.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.

Книга представляет сто лет из истории словенской «малой» прозы от 1910 до 2009 года; одновременно — более полувека развития отечественной словенистической школы перевода. 18 словенских писателей и 16 российских переводчиков — зримо и талантливо явленная в текстах общность мировоззрений и художественных пристрастий.

Словения. Вторая мировая война. До и после. Увидено и воссоздано сквозь призму судьбы Вероники Зарник, живущей поперек общепризнанных правил и канонов. Пять глав романа — это пять «версий» ее судьбы, принадлежащих разным людям. Мозаика? Хаос? Или — жесткий, вызывающе несентиментальный взгляд автора на историю, не имеющую срока давности? Жизнь и смерть героини романа становится частью жизни каждого из пятерых рассказчиков до конца их дней. Нечто похожее происходит и с читателями.
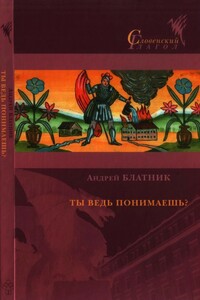
«Ты ведь понимаешь?» — пятьдесят психологических зарисовок, в которых зафиксированы отдельные моменты жизни, зачастую судьбоносные для человека. Андрею Блатнику, мастеру прозаической миниатюры, для создания выразительного образа достаточно малейшего факта, движения, состояния. Цикл уже увидел свет на английском, хорватском и македонском языках. Настоящее издание отличают иллюстрации, будто вторгающиеся в повествование из неких других историй и еще больше подчеркивающие свойственный писателю уход от пространственно-временных условностей.
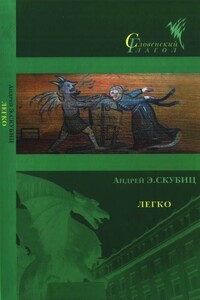
«Легко» — роман-диптих, раскрывающий истории двух абсолютно непохожих молодых особ, которых объединяет лишь имя (взятое из словенской литературной классики) и неумение, или нежелание, приспосабливаться, они не похожи на окружающих, а потому не могут быть приняты обществом; в обеих частях романа сложные обстоятельства приводят к кровавым последствиям. Триллер обыденности, вскрывающий опасности, подстерегающие любого, даже самого благополучного члена современного европейского общества, сопровождается болтовней в чате.
