Легенда одной жизни - [7]
Бюрштейн.
Милый Фридрих, не я тебя зову… Ты теперь становишься известностью. Надо тебе начать к этому привыкать…
Фридрих, бурно.
Но я не могу… не могу… Поймите же… Вы ведь это видите… Я не могу разговаривать с людьми о нас… о себе, о моей работе, о моем отце… Это невыносимо для меня! И к тому же, пусть бы я и хотел, очень хотел, я просто на это неспособен. Это мне не удастся. У меня начинает заплетаться язык… в мозгу образуется какая-то пустота… Я ищу слов, учтивых слов и не могу их подыскать, чувствуя, как они все, тем временем, наблюдают меня, жалостливо наблюдают и… и… сравнивают… Прошу вас, Бюрштейн, освободите меня от этого сегодня вечером, никого не представляйте мне… Я ведь принуждаю себя быть любезным… но чувствую, как я смешон.
Бюрштейн.
Я сделаю все возможное, Фридрих. Обещаю тебе. Но вполне нам не удастся без этого обойтись. Ты, во всяком случае, должен будешь пойти потом к Гровику и поблагодарить его.
Фридрих.
Разумеется… Я и в самом деле так благодарен ему… Он читает изумительно… Мне даже сделалось не по себе, когда я услышал свои стихи из его уст… Они стали вдруг такими величественными и сильными в раскатах его голоса… Конечно, я его поблагодарю… но только наедине с ним… не в присутствии всей этой толпы баронесс и патронесс,
Его раздражение усиливается.
этого праздного сброда, который вы приволокли сюда слушать мою поэму и который будет разливаться и растекаться в своих пошлых и бессмысленных восторгах…
Бюрштейн, похлопывая его по плечу.
Вот это так! Это я называю уверенностью в победе. Ты, стало быть, не сомневаешься в успехе?
Фридрих.
Дураком вы меня, что ли, считаете, Бюрштейн, ил издеваетесь надо мною? Вы думаете — я даю себя обольщать этим людям? Они расточали мне комплименты, они вьюнами вились вокруг меня еще прежде, чем я написал свою первую строку, и все это только потому, что ко мне прилипла слава… слава имени, кусочек воспоминания, осколок сенсации… только потому что я — сын человека, о котором они тоже ничего не знали… только потому, что я чем-то являюсь для их тщеславия и что им приятно изливать на меня свое восхищение… Бюрштейн! я становлюсь больным, сумасшедшим, когда думаю об этой повседневной болтовне: «ваш батюшка» — то, «ваш батюшка» — се, и всякий мне рассказывает, когда, как и где он его знал, видел, любил, уважал, и всякий мучит меня, донимает и допрашивает, когда я, где и как… Все это мне уже известно, каждое их слово… Я читаю это на их лицах, на их губах: вот-вот сорвется у них с языка вопрос… Я вижу заранее, прежде чем они это сказали, как у них складываются губы для слов «ваш батюшка»… И я раздражен с первого же мгновения, Бюрштейн, потому что только и жду этого вечного: «ваш батюшка». Я знаю, что это будет сказано неминуемо, неотвратимо, ибо о том, что небо сине, а вчера была гроза, об этом они ведь не говорят — у них всегда только: «Ваш батюшка!» И все они говорят мне, как я похож на него, и спрашивают, не имею ли я также склонности… И этим-то людям, Бюрштейн, вы устроили сегодня праздник! О, Бюрштейн, если бы вы знали, как вы огорчили меня этим злосчастным вечером!
Бюрштейн.
Не смотри на это так трагично, Фридрих: лиха беда — начало.
Фридрих.
Мое начало — беда? Вам ведь стоило пальцем шевельнуть, и все появилось мигом, как по волшебству: первый актер нашего времени, публика, критики, восторг и восхищение; все выскочило у вас, как у Фокусника из сундука, и будь я дурак, я бы, в самом деле, подумал, что все это — в мою честь! Но я знаю, на что они рассчитывают, эти меценаты и унаследованные почитатели; я знаю, что они подстерегают: они надеются, что я жалким образом провалюсь в соревновании с моим отцом, в которое вы меня вогнали хлыстом; они уверены что, при сопоставлении с ним, я окажусь смешным… Ах, как легко, как ужасно легко это начало! О, как жалки вы и я, мы все, обманывающие друг друга…
Бюрштейн.
Но ведь твой отец…
Фридрих, дико.
Довольно о моем отце! Довольно! Дайте мне хоть раз перевести дыхание, не слыша слов «Мой отец»! Дайте хоть один день прожить, не думая о нем! Довольно с меня!
Стучит кулаком по столу.
Довольно! Довольно! Мне еще прожужжат сегодня уши его именем. Теперь я хочу отдохнуть от него…
Бюрштейн.
Но, Фридрих… стоит ли из-за этого так волноваться…
Леонора, поспешно вбегая.
Видите, Бюрштейн… Я сразу же сказала, что он все-таки приедет, великий герцог… Только что пришла от него телеграмма… Вот она, Фридрих; он самолично прибудет с вечерним поездом, чтобы прослушать твое произведение…
Фридрих, прочитав телеграмму, жестоким тоном.
Здесь ничего не сказано о том, что он прибудет ради меня… ни слова…
Леонора.
Да вот же… читай… «Ничто не могло бы удержать меня от присутствия на вечере, связанном с памятью и духом дорогого Карла-Амадея Франка».
Фридрих.
Карла-Амадея Франка. Меня зовут Фридрих-Марий Франк. Он приезжает не ко мне, и я к нему не подойду…
Леонора.
Фридрих… Я не понимаю тебя… Ты не представишься великому герцогу, старому другу и покровителю твоего отца?.. Я серьезно прошу тебя…
Фридрих, в порыве детской ярости.
А я вас просил… давно уже, каждый день… оставьте меня в покое!.. Я не хочу… я не хочу… ко всему этому иметь никакого касательства!.. И без того меня душит стыд, что я отдал вам себя для того праздника снобов, баронесс и патронесс.

Литературный шедевр Стефана Цвейга — роман «Нетерпение сердца» — превосходно экранизировался мэтром французского кино Эдуаром Молинаро.Однако даже очень удачной экранизации не удалось сравниться с силой и эмоциональностью истории о безнадежной, безумной любви парализованной юной красавицы Эдит фон Кекешфальва к молодому австрийскому офицеру Антону Гофмюллеру, способному сострадать ей, понимать ее, жалеть, но не ответить ей взаимностью…

Самобытный, сильный и искренний талант австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) давно завоевал признание и любовь читательской аудитории. Интерес к его лучшим произведениям с годами не ослабевает, а напротив, неуклонно растет, и это свидетельствует о том, что Цвейгу удалось внести свой, весьма значительный вклад в сложную и богатую художественными открытиями литературу XX века.

Всемирно известный австрийский писатель Стефан Цвейг (1881–1942) является замечательным новеллистом. В своих новеллах он улавливал и запечатлевал некоторые важные особенности современной ему жизни, и прежде всего разобщенности людей, которые почти не знают душевной близости. С большим мастерством он показывает страдания, внутренние переживания и чувства своих героев, которые они прячут от окружающих, словно тайну. Но, изображая сумрачную, овеянную печалью картину современного ему мира, писатель не отвергает его, — он верит, что милосердие человека к человеку может восторжествовать и облагородить жизнь.

Книга известного австрийского писателя Стефана Цвейга (1881-1942) «Мария Стюарт» принадлежит к числу так называемых «романтизированных биографий» - жанру, пользовавшемуся большим распространением в тридцатые годы, когда создавалось это жизнеописание шотландской королевы, и не утратившему популярности в наши дни.Если ясное и очевидное само себя объясняет, то загадка будит творческую мысль. Вот почему исторические личности и события, окутанные дымкой загадочности, ждут все нового осмысления и поэтического истолкования. Классическим, коронным примером того неистощимого очарования загадки, какое исходит порой от исторической проблемы, должна по праву считаться жизненная трагедия Марии Стюарт (1542-1587).Пожалуй, ни об одной женщине в истории не создана такая богатая литература - драмы, романы, биографии, дискуссии.
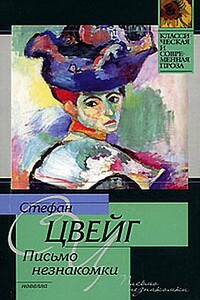
В новелле «Письмо незнакомки» Цвейг рассказывает о чистой и прекрасной женщине, всю жизнь преданно и самоотверженно любившей черствого себялюбца, который так и не понял, что он прошёл, как слепой, мимо великого чувства.Stefan Zweig. Brief einer Unbekannten. 1922.Перевод с немецкого Даниила Горфинкеля.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Роман «Призовая лошадь» известного чилийского писателя Фернандо Алегрии (род. в 1918 г.) рассказывает о злоключениях молодого чилийца, вынужденного покинуть родину и отправиться в Соединенные Штаты в поисках заработка. Яркое и красочное отражение получили в романе быт и нравы Сан-Франциско.
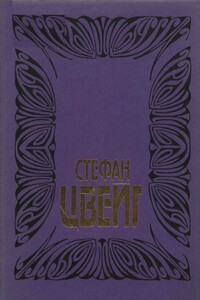
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».
