Лавина - [111]
Наконец он втащил рюкзак. Пристально, напряженно вглядывался в холодную мглу. Хотел крикнуть, но склеенное горло издало лишь хриплый, самому непонятный звук. Он скорее угадывал, чем видел на снегу черное неясное пятно — Жору. Потянул за репшнур, уходивший в эту глухую, почти осязаемую на ощупь тьму, не согретую даже отблеском звездного света. Что-то изменилось там, какие-то слова донеслись…
«Ты давай… отталкивайся…» — мысленно сказал Сергей и принялся выбирать репшнур.
Стоны. Бормотанье. Кашель и захлебывающиеся всхлипы, шорох и стоны…
Сергей выбирал репшнур, захват за захватом. Жора стонал, о чем-то просил, требовал, ругался. Сергей выбирал. Захват за захватом.
Как он втащил Бардошина на уступ? Как раскатал палатку? Как уложил Бардошина в спальный мешок, с его ногой и примотанным к ней ледорубом? Как сумел натянуть спальный мешок на себя?..
А только наступил желанный, вымечтанный каждой способной чувствовать клеточкой, долгожданный час. Никуда не должен он больше спешить, не должен копать, вытаскивать и вытягивать, и думать больше ни о чем не обязан. Он сделал все, что мог, и ни он сам, ни его совесть, ни мучившая и гнавшая на любые безрассудства тоска по любви не властны более приказывать его растекшемуся в изнеможении бесконечно усталому телу. Только лежать, отдаваясь несущему отдых и забвение забытью.
Странно было это состояние совершенного покоя, едва ли не отрешенности ото всего сущего, сколько Сергей себя помнит, никогда прежде не испытанное и вот, словно в утешение и отраду, милосердно дарованное ему. Представилось, что именно покоя, гармонии он искал и жаждал всю свою нелепую, никак не желавшую сложиться, как должно, как «у людей», жизнь. Оттого-то с несдержанной ревностью отзывался на любое беспардонное вмешательство в свои, не всегда наполненные отношения дома, но куда, открытее, острее, жестче — едва касалось дела, которому служил.
Чего он достиг? Почти ничего. Но он был с теми, кто трубил тревогу, кто кинулся пробивать равнодушие, непонимание, вечное российское «моя хата с краю» и «что вы мне твердите о каких-то гипотетических временах, когда сегодня с меня требуют то-то и то-то», — неблагодарная, сплошь состоявшая из забот, треволнений, стычек, унизительных разносов, жалоб со всех мыслимых сторон, и «справа» и «слева», и обвинений, и редкого позднего удовлетворения, если в какой-нибудь районной газетенке наконец-то печатали постановление о запрете вырубок в верховьях реки такой-то (откуда — и это было главным его аргументом — и сплав практически невозможен), или, как в случае с Кенозером, где удачными оказались хотя бы первые шаги по организации охранных мероприятий; и что взятое вкупе уже трудно именовать только работой или службой, разве, может быть, деятельностью. Да, именно так, деятельность, к которой пришел сам, по внутреннему велению (ну, правда, в какой-то степени и обстоятельства сыграли роль) и отдавался с пылом и убежденностью, находя в ней еще и утешение, и оправдание себе, не говоря уже, что в простоте душевной гордился (противопоставления всякой иной лишь подогревали особое, не укладывающееся в привычные рамки тщеславие); и еще поэтому новая его деятельность становилась не заполнением жизни, но самой жизнью или, во всяком случае, главнейшей и наиболее дорогой ему ее частью, беспрестанно вступавшей в конфликт с той, что принужден вести в городе. И теперь это все уходило. Почти неощутимо оставляло его.
Не угнетало более сделавшееся едва ли не привычным непонимание, а там и отчуждение близких ему людей; не давило укором, что где-то, понадеявшись на обещания, не дотянул, а там пустился в открытую войну, когда следовало окольными путями давить и допекать. Уходило и другое, саднившее унижением, столько времени не отпускавшее его, — не хотел помнить, думать и вот отстраненно и успокоенно перебирал в памяти.
…Лаборатория в подвальном этаже НИИ, тесно заставленная приборами, в переплетениях проводов, стеклянных и резиновых трубок; кажущийся беспорядок, на самом деле — продуманное и логичное размещение необходимых устройств. Его рабочий стол, тиски и газовая горелка на нем, бюретки, чашечки Петри, колбы всех фасонов на полках, новенький немецкий спектрограф, рулоны графиков, линованные листки бумаги, тесно исписанные его невозможным почерком, которого он стыдился… Незаметно летели ночные часы, когда ставился долгий опыт. Пульканье вакуумного насоса переставало восприниматься слухом, подобно тиканью часов: к нему привыкаешь. Сухо щелкнут реле, звякнет железка какая-нибудь, едва внятный шорох автомобильных шин донесется через окно. Спокойным светом горят контрольные лампы. Растут колонки цифр. Мир, тишина, почти убаюкивающие, почти сонные. Но это внешне. Десятки киловатт энергии за шкалами приборов, и напряженное ожидание конечных результатов.
И они были, результаты. Пусть пошло на чужую потребу, но сладостное удовлетворение работой, но радость предугаданных и подтвержденных в такие вот святые ночные часы данных достались ему.
…Он дорожил своей небольшой, с тщанием и любовью собранной библиотечкой. Сколько счастливых находок сделал в первые свои командировки в Архангельск, в небольшие городки Вологодской области!.. Пожалуй, это было не меньшей его страстью в то время — поиски старинных изданий, посвященных животному миру России, ее флоре, описание путешествий и географических открытий. Тут он готов был на любые траты, что приводило иной раз к не совсем легким объяснениям дома.

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

С Иваном Ивановичем, членом Общества кинолюбов СССР, случились странные события. А начались они с того, что Иван Иванович, стоя у края тротуара, майским весенним утром в Столице, в наши дни начисто запамятовал, что было написано в его рукописи киносценария, которая исчезла вместе с желтым портфелем с чернильным пятном около застежки. Забыл напрочь.
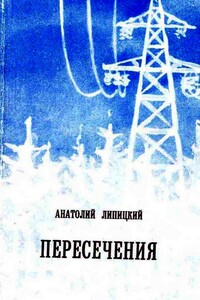
В своей второй книге автор, энергетик по профессии, много лет живущий на Севере, рассказывает о нелегких буднях электрической службы, о героическом труде северян.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».