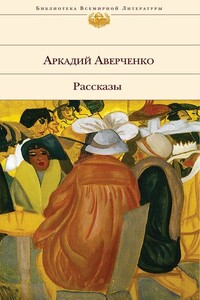— Бывай, брат Полочанин.
— Бывай, лыцарь, бывай.
Третий пошел на север и скоро исчез в горячем сиянии. А они пошли своей дорогой и скоро увидели замчище, и Днепр, а в стороне — старую хоромину Выливахи.
Цвела возле нее жимолость, белые облака боярышниковых оград дурманили зайца, сладко спавшего в их недрах, калина выбросила свои нежные зонтики. А Выливаха шел, и рука его лежала на девичьем плече.
Жизнь вернула ему единственную. И благодарение богу, что не оставила с ним той, а дала ему лучшую, чистую и преданную, истинное дитя этой земли.
На повороте тропинки, где неистовствовала синяя сирень, на них вывернулось шествие. Впереди шли опечаленные друзья во главе с Ирой Франтичком, а за ними, вполурысь, несли пустой гроб люди из притча, спорили о чем-то поп и патер, и шагали с напускно-постными рылами радцы и замковые люди.
Выливаха слышал одни голоса.
— Горе, хлопцы.
— Помянем горемыку.
— Такая упрямая, такая крепкая жизнь. Придавленная — а жизнь.
Но он слышал и другое.
— Простит ли его верховная сила?
— Скажу я вам, чистилище едва ли отпустит такую закоренелую душу хотя бы на год… даже если продать его двор, а деньги отдать мне, ксендзу.
— Какое чистилище?! Все это ваши римские выдумки.
— А пан — схизмат!
— Успокойтесь. Удовольствуйтесь тем, что вы — добрые люди, а он — червь и еретик.
— И не место ему среди достойнейших.
— Кон-нечно. Ни денег у него не было, ни глубокого почтения к властям, ни благонадежности. Ни благосостояния. Ни морали. Ни Христа.
И тогда Выливаха вышел на тропу и отрезал одни голоса от других.
— Вы можете вернуться, — сказал он. — Вас никто не звал сюда.
У кастеляна отвисла челюсть.
— Т-ты… ж-жив?
— А то как же. И буду жить с нею. Пока не умру в один с нею час… Можете взять этот гроб для кастеляна: по-моему он уже смердит…
— Как же…
— А вы что же, думаете, мы смертны и легко умираем?.. Идите, идите. Оставьте вино нам. Хлебайте уксус и желчь, перевозчики. У нас свой Эдэм. Не для вас.
И он взял девушку за руку, а друзья обняли их. И все они, оставив на тропе людей над пустым гробом, пошли в заросли боярышника и извечной, как эта земля, шипшины.
И заяц из недр боярышника не пустился от них наутек, а повернулся задом к оставленным и стал так хохотать, что у него треснула верхняя губа.
А боярышник цвел над землей, и это было действительно, как Эдэм, где звучал тихий и ласковый смех, то ли заячий, то ли, быть может, самой жизни.