Курс на худшее - [73]
Сознание, взятое независимо от бытия-в-себе, также не могло бы породить из своего небытия нечто обладающее субстанциальностью; если сознание существует лишь в той мере, в какой оно являет себя, то мелодия, преодолевая контингентность «в-себе», существует лишь в той мере, в какой она себя не являет. Получается, что мелодия ускользает от контингентности, поскольку не обнаруживает себя в качестве контингентной; так она обретает внутреннюю потребность бытия, неподвластную внешнему влиянию, но в то же время содержащую в себе возможность остановки, молчания, тишины.
Это кажется неотвратимым, — восклицает Рокантен, — настолько предопределена эта музыка: ничто не может ее прервать, ничто явившееся из времени, в которое рухнул мир; она прекратится сама, подчиняясь закономерности.
(Сартр, 35)
Внутренняя потребность бытия необходимо включает в себя, в виде конститутивного элемента, внутреннюю потребность небытия.
Рокантен хочет написать книгу, которая позволила бы ему вспоминать свою жизнь без отвращения, примириться с собой, даже если это лишь примирение с прошлым, с тем, что уже было. Однако его книга не сможет помешать ему существовать, чувствовать Тошноту, не защитит его от абсурдности настоящего и бессмысленности будущего. Беккет, ощутив в себе потребность стать писателем, вынашивает более глобальные планы: книга, о которой он мечтает, должна сделать существование в принципе невозможным, должна вернуть его в состояние добытийственной пустоты, преодолев темпоральность сознания. В отличие от сартровского героя, который пытается лишь изменить свои отношения с бытием-в-себе[347], персонаж Беккета надеется уничтожить мир как таковой, растворившись в массах бытия и запустив тем самым механизм их самоуничтожения.
«Если бы человек натолкнулся на совокупность предметов только с тремя из четырех рабочих значений, то перестал бы быть человеком», — замечает Хармс b «Предметах и фигурах» (Чинари—2, 306). Выражаясь по-иному, начертательное и целевое значения, а также значения эмоционального и эстетического воздействия на человека необходимы для того, чтобы человек чувствовал себя человеком. Характерно, что беккетовский персонаж, постепенно растворяясь в бытии-в-себе, теряет не только эмоции, но и способность воспринимать что-либо с эстетической точки зрения: одним словом, он перестает быть человеком и становится безымянным, самодостаточным архетипическим существом. Если же человек наблюдает совокупность предметов, лишенных всех четырех рабочих значений, продолжает свою мысль Хармс, то он перестает быть наблюдателем, становясь «чистым сознанием», тем, что, по Сартру, существует «само по себе». Для Хармса важно, что следующим этапом данного процесса очищения, во многом напоминающего механизмы трансцендентальной редукции Гуссерля, будет возвращение из области нематериального сознания в область предметного мира; но это уже не старый мир разобщенных предметов, а мир как целая величина, как «вновь образовавшийся синтетический предмет», которому присущи три новых значения: начертательное, эстетическое и сущее (Чинари—2, 306–307). Беккету, без всякого сомнения, чужд хармсовский оптимизм; однако в «Предметах и фигурах» есть тезис, который мог бы заинтересовать и его: дело в том, что человек, переставший быть наблюдателем и превратившийся в предмет, созданный им самим, может, по идее, приписать себе не только значение своего существования, но и значение несуществования, ибо, по Хармсу, автономия предмета, лишенного всех четырех рабочих значений, несвязанность его с другими элементами бытия подразумевает возможность его уничтожения или самоуничтожения:
Уничтожая все значения, кроме одного, мы тем самым делаем данный предмет невозможным. Уничтожая и это последнее значение, мы уничтожаем и само существование предмета.
(Чинари—2, 305)
Я уже говорил, что сознание, согласно доктрине Сартра, возникает из самого себя, то есть его возникновение не определяется ни существованием бытия-в-себе, ни отсутствием самого сознания, которое предшествовало бы его бытию. В то же время сознание есть всегда сознание о чем-либо, что подразумевает наличие некоего внеположного ему бытия.
Сказать, что сознание есть сознание чего-то, значит сказать, что оно должно осуществляться как откровение-открываемое бытия, которое не есть сознание и которое выказывает себя как уже сущее, когда сознание его открывает[348].
Мы можем еще раз убедиться, что бытие по своей сути неисчерпаемо: хотя сознание есть обращение бытия в небытие, оно нуждается в этом бытии, чтобы иметь возможность его устранить. Сознание возникает ниоткуда, но предполагает при этом наличие иного, чем его собственное, бытия; без бытия нет небытия, но без небытия есть только бытие. Мелодия, напротив, возникает откуда-то, и это «откуда-то» не есть ни «откуда-то» бытия-в-себе, ни «ничто» сознания. Мелодия возникает из того «ничто», которое предшествует и тому и другому, которое бытийствует до бытия и до сознания. Подобно Богу Бердяева, возникающему из бездны абсолютной свободы, мелодия рождается из Ungrund’a, из пустоты. Это рождение чудесное, таинственное, неподвластное силе разума. Для Бердяева вопрос «почему Ничто породило Бога?» по определению исключает возможность логического ответа; тот, кто его задает, намеревается перевести истину мистического откровения на язык катафатической теологии. Точно так же обречена и попытка объяснить творческий акт как действие сознательное, целью которого является производство предметов искусства. В этом вся разница между проектом Рокантена и музыкой, которая вдохновляет его на написание книги: Рокантен думает прежде всего о том, как реализовать свой проект, он создает книгу из «небытия» своего сознания, которое есть сознание об окружающем его бытии-в-себе; мелодия же коренится в Ничто, которое предшествует любому бытию и из которого рождается Бог-Творец, создающий мир. Именно в этом безотносительном к бытию «ничто» видит Беккет залог временности, преходящести бытия; чтобы преодолеть тяжесть бытия, надо вернуть его в состояние изначальной, добытийственной пустоты (той пустоты, которая является важнейшим элементом таблицы «троицы существования»). Достичь пустоты можно с помощью музыки и литературы. Но для этого необходимо, чтобы литература стала музыкой, чтобы письмо несло в себе возможность своей собственной смерти, своего собственного небытия.
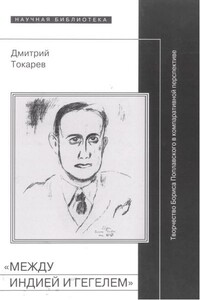
Борис Поплавский (1903–1935) — один из самых талантливых и загадочных поэтов русской эмиграции первой волны. Все в нем привлекало внимание современников: внешний облик, поведение, стихи… Худосочный юноша в начале своей парижской жизни и спустя несколько лет — настоящий атлет; плохо одетый бедняк — и монпарнасский денди; тонкий художественный критик — и любитель парадоксов типа «отсутствие искусства прекраснее его самого»; «русский сюрреалист» — и почитатель Лермонтова и блока… В книге Дмитрия Токарева ставится задача комплексного анализа поэтики Поплавского, причем основным методом становится метод компаративный.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
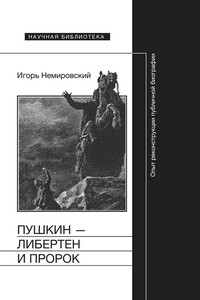
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.