Курс на худшее - [119]
Даже если Хармс и заимствует что-то у Гоголя, а также у Достоевского, Пруткова, Майринка, Кэрролла, Гамсуна и других писателей, то источник этого заимствования предельно искажен, деформирован, как, например, в стихотворении, на которое я уже ссылался во введении к моей работе, — «СОН двух черномазых ДАМ». В. Сажин усматривает в нем скрытые отсылки к четырем писателям, репрезентирующим всю русскую литературу, оказавшуюся, как известно, «в ночном горшке»: речь идет о Достоевском, Пушкине, Гоголе и Толстом, который в другом тексте — рассказе «Судьба жены профессора» — этот самый ночной горшок и несет. Мало того что вся русская литература перерабатывается Хармсом в недифференцированную массу[535], в стихотворении постулируется и принципиальное для него, как, впрочем, и для Беккета, неразличение самого писателя и продуцируемого им текста: сначала двум дамам кажется, что вошел управдом, держа в руках вторую часть «Войны и мира», а потом оказывается, что вошел-то сам Толстой. Книга превращается в писателя, и наоборот, писатель превращается в книгу.
Что же касается Гоголя, то в стихотворении он присутствует в виде особого приема; как пишет В. Сажин, «две дамы — частный случай устойчивой парности гоголевских персонажей, которая (парность) у Хармса акцентирована графическим разделением четырех слов заглавия на две пары»[536]. Кстати, Ж.-Ф. Жаккар, говоря о влиянии Гоголя на Хармса, вдруг вспоминает (и обильно цитирует) Сэмюэля Беккета, хотя заподозрить последнего в том, что он заимствовал некие повествовательные приемы у русского классика, довольно трудно. Это еще раз доказывает, что письмо представляет собой многомерное, нелинейное пространство, диктующее свои условия писателю.
Чудотворцу из хармсовской «Старухи» не нужно творить чудеса, чтобы доказать, что он чудотворец; напротив, его алогическое бездействие как раз и является лучшим доказательством его просветленности. Писатель у Хармса оказывается в другой ситуации: он вынужден постоянно доказывать, что он писатель; для этого ему нужно либо повторять как заклинание «я писатель, я писатель», либо, не останавливаясь, создавать все новые и новые тексты. В «Старухе» рассказчик, готовящийся написать текст о чудотворце, ведет себя именно как писатель: он вынашивает свой текст, предсуществуя ему. Вся сложность в том, что планируемый текст должен быть алогичным, поскольку речь в нем пойдет, как сказал бы кардинал Николай Кузанский, о достижении недостижимого через посредство его недостижения. Но если чудо является чудом лишь до тех пор, пока оно не сотворено, то и текст о чуде является алогическим лишь до тех пор, пока он не написан. Алогический текст может быть таковым лишь в непроявленном, потенциальном состоянии; другими словами, идеальный алогический текст — это текст ненаписанный, несуществующий, текст, непосредственно соприкасающийся с тишиной. Текст о чудотворце, который не творил чудес, сопротивляется написанию, погружая рассказчика в состояние, похожее на летаргический сон, когда время останавливается и затухает сознание. Остается, правда, еще одна возможность: написать текст о невозможности написать текст; таким текстом, собственно говоря, и является «Старуха». В этом отношении хармсовская повесть очень близка «Тошноте» Сартра: оба произведения, в которых автор, рассказчик и главный герой составляют одно целое, с полным правом можно назвать абсурдными, ибо абсурдный текст — это текст о невозможности создать текст алогический.
Чудотворец ничего не хочет, а значит, он представляет собой не что иное, как шар, ибо именно шар, как указывает Хармс в «случае» «Макаров и Петерсен № 3», является той идеально замкнутой на себе формой, которая символизирует отсутствие желаний[537]. В шар превращается Петерсен, причем превращение это непосредственно совпадает по времени с моментом произнесения названия некой таинственной книги — книги «МАЛГИЛ» («МАЛГИЛ» — это, по-видимому, «очищенное» слово «могила»). Так в книгу переходит не только писатель, но и читатель. Петерсен попадает в пугающий вечный мир, в котором ничего не происходит, в мир вестников, в Чистилище Джойса и Безымянного. Чудотворцу из «Старухи» удается избежать такой судьбы: он умирает. Героям последних беккетовских текстов также удается вплотную приблизиться к пустоте абсолютного небытия, и это приближение становится возможным лишь после того, как магматическая словесная стихия разбивается о нематериальную твердость и чистоту абстрактного образа, созданного музыкальными или визуальными средствами. К тому же они, в отличие от персонажей трилогии, уже
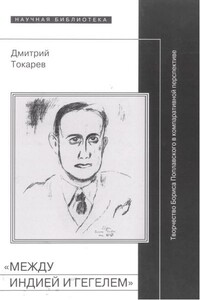
Борис Поплавский (1903–1935) — один из самых талантливых и загадочных поэтов русской эмиграции первой волны. Все в нем привлекало внимание современников: внешний облик, поведение, стихи… Худосочный юноша в начале своей парижской жизни и спустя несколько лет — настоящий атлет; плохо одетый бедняк — и монпарнасский денди; тонкий художественный критик — и любитель парадоксов типа «отсутствие искусства прекраснее его самого»; «русский сюрреалист» — и почитатель Лермонтова и блока… В книге Дмитрия Токарева ставится задача комплексного анализа поэтики Поплавского, причем основным методом становится метод компаративный.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.