Кумир - [5]
За двести лет, избранных Солженицыным, если верить ему, евреи — шинкари споили русский народ. Ну, а раньше на Руси не пили? Издав в 1700 году указ праздновать Новый год с 1-го января Петр 1 предупреждал строго: «…пьянства и мордобоя не учреждать, на то есть другие дни.» И дней этих было так много, что в 1648 году в Москве, а потом и в других городах вспыхнули кабацкие бунты, войска вызывали на подавление. А содержали кабаки православные люди, целовальники, никаких шинкарей тогда не было, они крест целовали на том, что, беря торговлю водкой на откуп, торговать будут честно, и вскоре треть населения была у них в долгу. Несли из домов последнее, под Москвой забросили огороды, переставали пахать землю. Царь Алексей Михайлович, второй по счету в династии Романовых, вынужден был созвать в 1654 году собор, который так и назывался: собор о кабаках. И учредили: православным пить не больше 180 дней в году, чарками, и вместимость чарок была отмерена, а в остальные дни не пить. Но казна требовала денег, и через семь лет все это забылось. А пьяные бюджеты советских лет. А в наши дни, при Ельцине, когда церковь, став в один ряд с афганцами и спортсменами, добилась себе права беспошлинно ввозить в страну водку и табак, спаивать и травить зельем свою паству.
Все это Солженицын знает, невозможно представить себе, чтобы настолько не знал он историю России, но где умолчанием, а где и с возмущением горестным подплескивает керосинцу в огонь нетленный. И метод избрал изощренный: чужими руками. Выбирает из двух энциклопедий, из журнала 22, из прочей публицистики, все то плохое, что евреи сами про себя пишут, оставляя себе возможность вроде бы даже поразиться и укоризненно покачать головой — ай-я-яй! — да комментариями соответствующими направить мысль читателя в нужное русло. Если из великой русской классической литературы повыбрать нужные места, страшная составится картина. А тот же «Матренин двор», написанный Солженицыным, когда он еще был художником. Или так, например: если бы «Пышку», где представлено все французское общество в разрезе — аристократы, буржуазия, церковь святая в лице двух монашенок, а людьми-то среди них оказались на поверку только проститутка, судомойка да немецкий солдат-оккупант, если бы все это написал не француз Мопассан, а, скажем, капитан Дрейфус, это бы пристегнули к его обвинительному заключению.
А еще Солженицын любит цитировать выкрестов. Я имею ввиду не тех, кого насильственно окрестили, и для верующих отступничество стало мукой на всю жизнь, а тех, кто продался, добровольно пошел служить. Вот уж кто ненавидит свой народ, вот уж кто, зная по себе, способен выворотить наружу все его пороки! И ненависть эта понятна, иначе как же ты, предатель, очистишься? Вот и в эту войну самыми жестокими карателями были полицаи.
И все же самое постыдное, что Солженицын оправдывает погромы: если, мол, разобраться беспристрастно, то жертвы сами вызвали на себя гнев народный. И высчитывает и выискивает по разным источником, что не столько-то было убито и изнасиловано, как сообщалось, а меньше, вот столько-то, а при вот этом погроме вообще только одноглазому еврею выбили гирькой второй глаз.
Всего лишь.
Человек, который в наши дни, после того, как фашистами был учинен вселенский погром, в ходе которого уничтожено полтора миллиона детей, способен после этого оправдывать толпу, жаждущую крови, идущую безнаказанно убивать и грабить тех, кто и защититься не может, такой человек — вне морали.
В ноябре прошлого года отмечали 40-летие с того дня, когда в «Новом мире» была напечатана повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». О редакторе «Нового мира», о Твардовском, а это он ее напечатал, не упоминалось, называли другие имена. Дело известное: у победы много отцов, поражение — сирота. Впрочем, в одной из газет все же было сказано: 11 ноября Твардовский подписал в печать номер журнала. Как о техническом работнике: ему поручили, он подписал. Еще двадцать лет назад в интервью Би-би-си Солженицын говорил: «Совершенно ясно: если бы Твардовского не было как главного редактора журнала — нет, повесть эта не была бы напечатана.» В этом же интервью он признавал, что и «Архипелаг ГУЛАГ» не был бы написан, если бы не появился и люди не прочли «Один день Ивана Денисовича»: «Он в моей биографии сыграл ту большую роль, что помог написать „Архипелаг“. Из-за того, что я напечатал „Ивана Денисовича“ — в короткие месяцы, пока меня еще не начали гнать, сотни людей стали писать ко мне письма. А некоторые и приезжать и рассказывать еще. И так я собрал неописуемый материал, который в Советском Союзе и собрать нельзя. — только благодаря „Ивану Денисовичу“. Так что он стал как бы пьедесталом для „Архипелага ГУЛАГа“». Но прошло еще двадцать лет, и Твардовского в его судьбе, как не бывало. Итак, в общей сложности минуло 40 лет. Это значит, между прочим, что те, кому сейчас сорок, в ту пору только родились на свет. А те, кому пятьдесят, кто уже нет-нет, да и о пенсии начинают подумывать, тем в ту пору было только десять лет. Не ими то время пережито, откуда им что знать? Но автор повести, который в дальнейшем стал за нее лауреатом Нобелевской премии, а в ту пору — никому еще не известный автор, он знает и помнит, как все было, как в дальнейшем за эту повесть травили Твардовского, раньше срока свели в могилу.
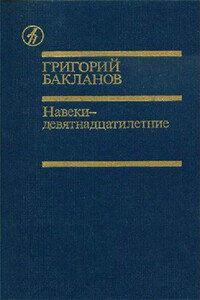
Тема повести — Великая Отечественная война. Герои — наши современники, люди, прошедшие войну, те, кто пошел воевать прямо со школьной скамьи и познал все тяготы окопного быта.
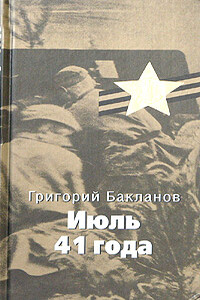
Григорий Яковлевич Бакланов, человек «военного поколения», ушёл добровольцем на фронт. Все пережитое в Великую Отечественную войну он отразил в своих произведениях, в которых на первый план выдвигает не политический, а нравственный аспект.В романе «Июль 1941 года» автор рассказал не только о событиях начала войны, но и сделал попытку интерпретировать их в историко-политическом аспекте, выявить коренные причины поражения Советской Армии.
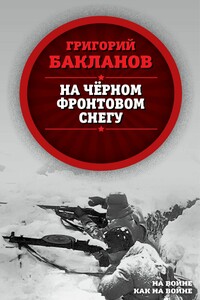
Григорий Яковлевич Бакланов – известный писатель и сценарист, один из представителей «лейтенантской прозы». В 1941 году он добровольцем ушел на фронт, воевал в пехоте и артиллерии, участвовал в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. Его произведения о войне с большим трудом выходили в советское время; нелегкой оказалась и судьба фильма «Был месяц май», снятого по его сценарию Марленом Хуциевым. Причина этому – тяжелые и горькие эпизоды войны, показанные Баклановым, которые часто шли вразрез с «парадной» историей.
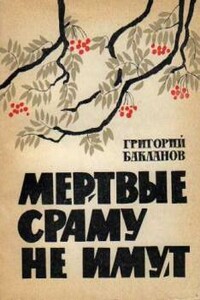
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
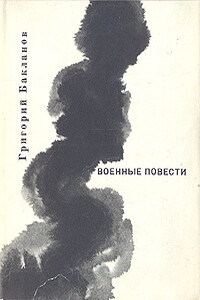
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
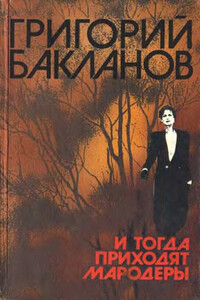
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.