Кумир - [7]
Помню, прочел я в «Новом мире» повесть «Один день Ивана Денисовича» и был заворожен силой таланта. И тогда же написал о ней, это была первая рецензия в «Литературной газете». Потом мне это припомнят. А тогда встретил меня случайно Твардовский в Доме литераторов и говорит: конечно, рецензия ваша не сильна аналитическим анализом, но — спасибо. В дальнейшем, когда ветер переменился и глава Союза писателей беспартийный Федин заколебался вместе с линией партии, Твардовский стыдил его несколькими фразами из той моей рецензии, это есть в его собрании сочинений.
Повесть Солженицына буквально произвела взрыв в общественном сознании.
Верней сказать так: общество созрело, ждало, и в этот-то момент она явилась.
Но пока ее хвалили у нас, и вслед за журналом срочно выпустили книгой, а еще и в «Роман-газете» — тиражом в несколько миллионов экземпляров, за границей отнеслись к ней весьма сдерженно. Но вот согнали Хрущева с поста, оставив под надзором заниматься огородом на отведенной ему даче, а во главе партии стал Брежнев. И развернулась травля Солженицына, травля «Нового мира» и, разумеется, Твардовского. Финский издатель Ярль Хеллеман, он году в шестидесятом издавал мою повесть «Пядь земли», в дальнейшем мы подружились, так вот он рассказывал, как они первоначально издали «Один день Ивана Денисовича» пробным тиражом в 3 тысячи экземпляров, и половина этого тиража, не раскупленная, осталась лежать на складе: это для вас, говорил он, — новость, а у нас про все, что здесь рассказано, давно известно. Но тут вы нам помогли: начался шум в газетах, и мы сразу переиздали ее тиражом в 20 тысяч. И все раскупили. То же самое рассказывал мне шведский издатель Пэр Гедин, он издавал две мои книги. Кстати, подробность из тех времен: приехал он в Москву, садимся у меня дома обедать — звонок из ВААПа, то есть из Всесоюзного агентства по охране авторских прав. Никаких авторских прав оно не охраняло, поскольку никаких прав мы не имели. Агентство само заключало за нас договоры на издание наших книг за границей, гонорары соответственно забирало себе, для видимости оставляя авторам копейки. Был там заместитель главы агентства, штатский, но бывший СМЕРШевец, он имел звание то ли полковника, то ли генерала ведомства, пронизавшего всю страну. «У вас сейчас Пэр Гедин. Он собирается издавать Солженицына. Так вы скажите ему: либо Солженицын, либо девять тысяч советских писателей!» «Да не нужны ему девять тысяч советских писателей.» «Нет, вы ему так и передайте!» И не сомневается, что «девять тысяч советских писателей» у него — в горсти. Это и называлось охраной авторских прав. Я пообещал: непременно вот так и передам. Между прочим, читающий человек в среднем успевает прочесть за свою жизнь 4 тысячи книг.
А издавал в это время Пэр Гедин «Архипелаг ГУЛАГ», он и рассказал мне, как приехал к нему вести деловые переговоры Солженицын, высланный из СССР и свободно перемещавшийся по странам, как уединились они в кабинете, и Солженицын потребовал, чтобы всех «veg!» А была в доме большая черная собака с отрубленным хвостом: «Каналья», старая и по старости ласковая ко всем, в том числе — к гостям. Не лишенный юмора Пэр спросил: «И Каналью тоже veg?» (Говорили они по-немецки). «Veg!» И такого страху гость этот нагнал на всех, что когда дочь Пэра Марийка внесла на подносе чай и печенье, руки у нее тряслись, она уронила чашки с горячим чаем Солженицыну на колени. Наша пропаганда, бессильная в своей ярости, бессильная потому, что вылетел птенчик из гнезда, вышла в «Новом мире» повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», очень и очень наша пропаганда помогла Нобелевскому комитету совершить свой выбор. И это не впервые. Великого поэта Пастернака выставляли и раньше на Нобелевскую премию, но дали премию только после романа «Доктор Живаго», который у нас подвергся изничтожению. А выйди он спокойно книгой, ровным счетом ничего бы не сотряслось. Поэты вообще редко пишут хорошую прозу. Речь, конечно, не о Пушкине, не о Лермонтове. «Герой нашего времени» — это начало психологической русской прозы.
Твардовский умер от рака. Известнейший немецкий онколог и хирург Райк Хамер, обследовав более 20 тысяч больных разными формами рака, пришел к выводу, что у всех этих людей незадолго до начала заболевания имел место какой-то сильный стресс, эмоциональный конфликт, который им не удалось разрешить.
Тем не менее, когда чета Солженицыных вернулась из Вермонтского поместья на родину, встреченная с величайшим энтузиазмом, раздалось вскоре из семьи: а что, собственно говоря, «Новый мир» сделал для Солженицына?
Напечатал три рассказа. И то название одного из них пришлось изменить, потому что Твардовский не ладил с Кочетовым: назывался рассказ «На станции Кочетовка», а пришлось назвать «На станции Кречетовка». Выходит, еще и пострадали. И это сказано было вслед уже ушедшему из жизни Твардовскому.
Недавно младшая дочь Александра Трифоновича Оля сказала мне: «Я все думаю: за кого отец взошел на костер…» Итак прошло сорок лет с того дня, когда в «Новом мире» была напечатана повесть «Один день Ивана Денисовича», сыгравшая такую роль в судьбе Солженицына. Как художественное произведение это — лучшее из всего, что им создано. Да еще, пожалуй, — написанный с натуры «Матренин двор». И опять сошлюсь на Достоевского, он писал: «Прежде надо одолеть трудности передачи правды действительной, чтобы потом подняться на высоту правды художественной.» В рассказе «Матренин двор» — правда действительная, в маленькой по размеру повести «Один день Ивана Денисовича» автор смог подняться до высоты правды художественной. И потому она останется. Конечно, останется «Архипелаг ГУЛАГ». Не вина автора, что сегодня у этой книги немного читателей, в ту пору, в пору холодной войны, она сыграла свою роль, да и написана сильно. Безразмерное «Красное колесо», главный труд его жизни?
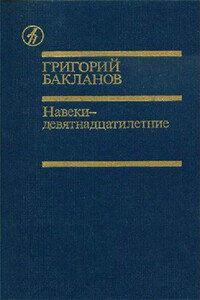
Тема повести — Великая Отечественная война. Герои — наши современники, люди, прошедшие войну, те, кто пошел воевать прямо со школьной скамьи и познал все тяготы окопного быта.
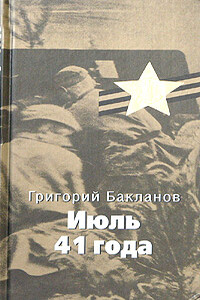
Григорий Яковлевич Бакланов, человек «военного поколения», ушёл добровольцем на фронт. Все пережитое в Великую Отечественную войну он отразил в своих произведениях, в которых на первый план выдвигает не политический, а нравственный аспект.В романе «Июль 1941 года» автор рассказал не только о событиях начала войны, но и сделал попытку интерпретировать их в историко-политическом аспекте, выявить коренные причины поражения Советской Армии.
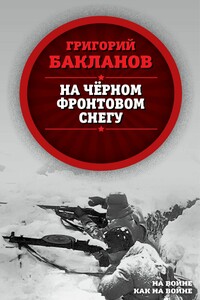
Григорий Яковлевич Бакланов – известный писатель и сценарист, один из представителей «лейтенантской прозы». В 1941 году он добровольцем ушел на фронт, воевал в пехоте и артиллерии, участвовал в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. Его произведения о войне с большим трудом выходили в советское время; нелегкой оказалась и судьба фильма «Был месяц май», снятого по его сценарию Марленом Хуциевым. Причина этому – тяжелые и горькие эпизоды войны, показанные Баклановым, которые часто шли вразрез с «парадной» историей.
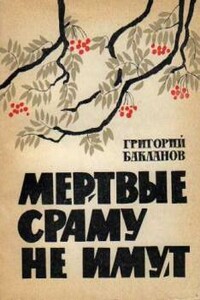
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
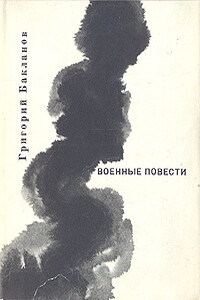
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
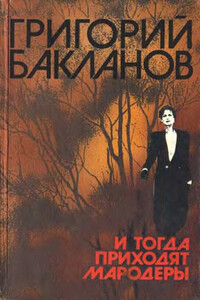
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
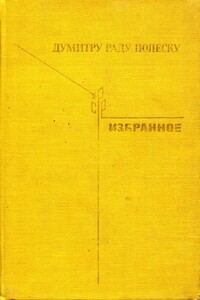
В книгу включены избранные повести и рассказы современного румынского прозаика, опубликованные за последние тридцать лет: «Белый дождь», «Оборотень», «Повозка с яблоками», «Скорбно Анастасия шла», «Моря под пустынями» и др. Писатель рассказывает об отдельных человеческих судьбах, в которых отразились переломные моменты в жизни Румынии: конец второй мировой войны, выход из гитлеровской коалиции, становление нового социального строя.
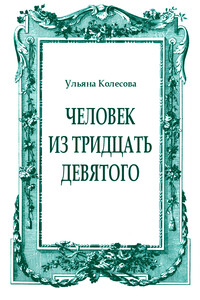
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
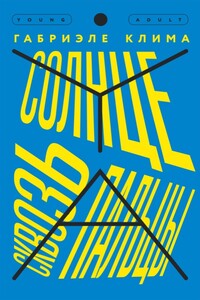
Шестнадцатилетнего Дарио считают трудным подростком. У него не ладятся отношения с матерью, а в школе учительница открыто называет его «уродом». В наказание за мелкое хулиганство юношу отправляют на социальную работу: теперь он должен помогать Энди, который испытывает трудности с речью и передвижением. Дарио практически с самого начала видит в своем подопечном обычного мальчишку и прекрасно понимает его мысли и чувства, которые не так уж отличаются от его собственных. И чтобы в них разобраться, Дарио увозит Энди к морю.
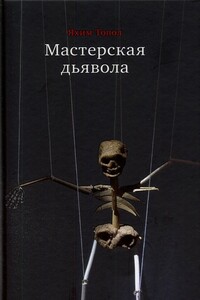
«Мастерская дьявола» — гротескная фантасмагория, черный юмор на грани возможного. Жители чешского Терезина, где во время Второй мировой войны находился фашистский концлагерь, превращают его в музей Холокоста, чтобы сохранить память о замученных здесь людях и возродить свой заброшенный город. Однако благородная идея незаметно оборачивается многомиллионным бизнесом, в котором нет места этическим нормам. Где же грань между памятью о преступлениях против человечности и созданием бренда на костях жертв?

Юрий Купер – всемирно известный художник, чьи работы хранятся в крупнейших музеях и собраниях мира, включая Третьяковскую галерею и коллекцию Библиотеки Конгресса США. «Сфумато» – роман большой жизни. Осколки-фрагменты, жившие в памяти, собираются в интереснейшую картину, в которой рядом оказываются вымышленные и автобиографические эпизоды, реальные друзья и фантастические женщины, разные города и страны. Действие в романе часто переходит от настоящего к прошлому и обратно. Роман, насыщенный бесконечными поисками себя, житейскими передрягами и сексуальными похождениями, написан от первого лица с порядочной долей отстраненности и неистребимой любовью к жизни.
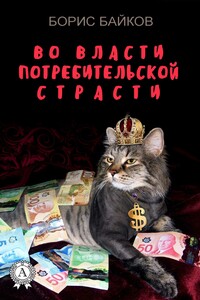
Потребительство — враг духовности. Желание человека жить лучше — естественно и нормально. Но во всём нужно знать меру. В потребительстве она отсутствует. В неестественном раздувании чувства потребительства отсутствует духовная основа. Человек утрачивает возможность стать целостной личностью, которая гармонично удовлетворяет свои физиологические, эмоциональные, интеллектуальные и духовные потребности. Целостный человек заботится не только об удовлетворении своих физиологических потребностей и о том, как «круто» и «престижно», он выглядит в глазах окружающих, но и не забывает о душе и разуме, их потребностях и нуждах.