Крыло беркута. Книга 1 - [91]
А на рассвете снова привело Ташбая в возбуждение удивительное происшествие: кто-то через пролом в своде закинул в зиндан две пресные лепешки. Парень глазам не поверил, когда лепешки шлепнулись на пол рядом с ним. Что за диво? Кто их закинул? И самое главное — для кого? Вопросы эти промелькнули в голове Ташбая с быстротой молнии. Размышлять, искать ответы мочи не было, очень хотелось есть, и он, даже не возблагодарив бога за свалившуюся с неба пищу, живо съел одну лепешку. Поднес было ко рту и вторую, но остановила мысль о ребятах, вместе с которыми он попал в беду. А как же они? Они ведь тоже голодные…
Ташбай растолкал своих товарищей и протянул кусок лепешки вскочившему первым. Тот, еще не разобравшись спросонок, что к чему, все же мигом отправил в рот свою долю и воззрился на Ташбая в ожидании добавки. Второй уже успел очнуться и сам выхватил предназначенный ему кусочек. А третий взять свою долю не успел — перехватил ее чужой, протянув руку из-за спины Ташбая.
— Ты, обормот! — закричал Ташбай, обернувшись, и замахнулся на нахала, торопливо жевавшего перехваченный кусочек. Однако не ударил, а сам получил тычок в спину. Глядь — оказывается, все уже проснулись и несколько человек успели подойти к нему.
— Ты, парень, пасть-то чересчур не разевай! — сказал один из них угрожающе. — Зачем обзываешься, а?
— А чего он не свое хватает?
— Твое, что ли, схватил?
— Раз я в руке держал — значит, мое. Я своему товарищу протянул, а он почти изо рта у него вырвал!
— А ты где взял?
— Нашел…
— С собой принес и тайком жрал?
Обитатели каменной юрты загомонили:
— Гляди, какой хитрец!
— Тут, в зиндане, моего-твоего нет, все общее.
— Коль принес за пазухой лепешки, должен был разделить на всех!
— Верно! Каждому хочется отведать гостинца с воли.
— Проучить его надо! Дать ему по шее, чтоб другой раз неповадно было!
— Будешь еще так?.. Будешь?..
Ташбай получил еще пару тычков, но бить всерьез его не стали, может быть, потому, что принял тычки безропотно.
— Я ничего с собой не принес, — проговорил он угрюмо. — Сюда через дыру что-то закинули, гляжу — две лепешки. Я с голодухи-то забылся, одну съел, а другую решил меж товарищами своими поделить, хоть по кусочку. Сами же вы видели — без сил мы тут попадали, издалека нас пригнали.
— Когда лепешки забросили?
— Да совсем недавно, когда светало.
— Врешь, небось.
— С чего это я должен врать!
— Поклянись!
— Я, братцы, по пустякам не клянусь. Хотите — верьте, хотите — нет, но я правду сказал.
— Может, чей-нибудь родич пришел, напал на след? Или друг…
Тут внимание пленников привлек странный звук: будто всхлипнул кто-то. Оглянулись и видят: сидит, прислонившись к стене, Аккусюк, а по щекам слезы текут.
— Бэй! Ногаец плачет! Ты что? Никак, из-за того, что лепешка не досталась…
— Вот смехота! Одного малость задели — другой заплакал.
— Знали бы вы!.. — простонал Аккусюк и затрясся, стараясь сдержать рыдания.
Все умолкли. Видно, решили: не стоит мешать человеку, пусть облегчит душу…
12
Молодые минцы, повторив за сыном предводителя клич племени, помчались в сторону Имянкалы без обычного для такой ватаги шума-гама. Хотя никто из них не имел ясного представления, что они там предпримут, все были настроены решительно, все летели на крыльях воодушевления, вызванного священным кличем.
Давно уже в племени Мин люди не испытывали этого чувства. В последние годы не доводилось им выступать в походы, отправляться за барымтой, а значит — не возникала необходимость тревожить священный клич. Субай-турэ сам не был охоч до столкновений с соседями и особо ретивых своих старейшин придерживал. «Нас не трогают, и других не стоит разорять, — говорил он. — Барымта не славой пахнет, а кровью».
Конечно, налеты на соседей ради добычи — дело недоброе, и мнение предводителя насчет этого в племени одобрялось, но в то же время народ ясно видел: чрезмерная тяга к беззаботной жизни начинает оборачиваться беззубостью, и всякого рода любители поживы все больше наглеют. Пусть и не могут они пока урвать по-крупному, а все же нет-нет да что-нибудь отщипнут. Слава племени, отличавшегося прежде умением постоять за себя, понемногу меркнет.
Акхакалы пробовали намекнуть Субаю на это. «Смирное стадо волков к себе приваживает, — говорили они и советовали: — Сила у нас есть, не мешает иногда и показывать ее». Турэ советов не отвергал, но и не принимал, жил себе, как жилось, то есть предпочитая беспечность беспокойству. И так и сяк подступались к нему старики, кто-то даже посоветовал на худой конец показать зубы баскаку, чтоб меру помнил. «Склоненную голову меч не сечет, — ответил предводитель. — Надо голову сберечь, остальное приложится».
И стало назревать недовольство Субаем — прежде всего в ответвлениях племени, отдаленных от главного становища. Первыми шумнули илецкие минцы, хулили они род, к которому принадлежал Субай, — дескать, слабый он, нужен турэ из другого рода. А потом пошли разговоры о том же среди яицких и меркетлинских минцев, и в каждом роду считали, что во главе племени должен стоять человек именно из их рода. И в коренных родах племени недовольство бездеятельностью Субая вызвало брожение — пока что глухое, подспудное.

Приключенческая повесть известного башкирского писателя Кирея Мэргэна (1911–1984) о пионерах, которые отправляются на лодках в поход по реке Караидель. По пути они ближе узнали родной край, встречались с разными людьми, а главное — собрали воспоминания участников гражданской войны.
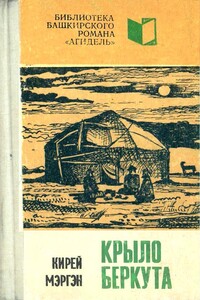
Вторая книга романа известного башкирского писателя об историческом событии в жизни башкирского народа — добровольном присоединении Башкирии к Русскому государству.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В тихом городе Кафа мирно старился Абу Салям, хитроумный торговец пряностями. Он прожил большую жизнь, много видел, многое пережил и давно не вспоминал, кем был раньше. Но однажды Разрушительница Собраний навестила забытую богом крепость, и Абу Саляму пришлось воскресить прошлое…

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.
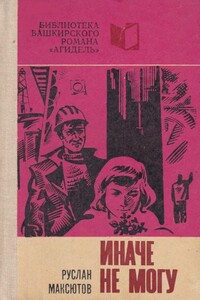
Описываемые в романе события развертываются на одном из крупнейших нефтепромыслов Башкирии. Инженеры, операторы, диспетчеры, мастера по добыче нефти и ремонту скважин — герои этой книги.
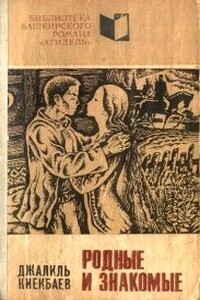
Роман о борьбе социальных группировок в дореволюционной башкирской деревне, о становлении революционного самосознания сельской бедноты.

Роман повествует о людях, судьбы которых были прочно связаны с таким крупным социальным явлением в жизни советского общества, как коллективизация. На примере событий, происходивших в башкирской деревне Кайынлы, автор исследует историю становления и колхоза, и человеческих личностей.