Крыло беркута. Книга 1 - [129]
Мужчины не плачут ни с горя, ни от радости, но ведь и у них бывают мгновения слабости. Карагужак с трудом проглотил подкативший к горлу комок.
— Спасибо, большое тебе спасибо! Хай, будь я здоров — угостил бы тебя от души, до упаду!
— Не беспокойся об этом, меня тут прямо-таки заугощали.
— Когда отыщешь свое племя, приезжай опять, подольше погостишь. Давай всегда будем держаться вместе. Коль тамьянцам нужна помощь, извести меня…
Шагали сдержанно вздохнул. Он понимал, что с родным его племенем случилась какая-то беда, иначе не покинуло бы оно землю отцов и дедов и не направилось на зиму глядя куда-то за Урал. Каждый раз при упоминании о тамьянцах сердце Шагалия начинает ныть. Вот и сейчас заныло. Но он не стал делиться своими переживаниями с Карагужаком — у него и так достаточно неприятностей.
— Да, скажи-ка: над полем боя слышался клекот беркута? — спросил Карагужак.
Шагали улыбнулся, вопрос показался ему по-детски наивным, но чтобы не расстраивать раненого, он сказал:
— Может, и слышался. В ваших краях много беркутов. Только я в горячке не обратил внимания…
В смертельной схватке не то что на клекот — на медвежий рев не обратишь внимания. Однако Карагужак был убежден, что в этом победном бою его соплеменникам помогал клекот священной птицы.
— Могучая птица. Сам Тенгри даровал ее нам… — проговорил он задумчиво.
— Я замечал: некоторые птицы стараются свить гнезда поближе к гнезду беркута. Живут под его крылом. Хоть он, бывает, сам их заденет, зато уж никому другому в обиду не даст. Надежное у беркута крыло!
— Да, надежное…
— Ну, турэ, мне пора. До свидания! — сказал Шагали, притронувшись к руке Карагужака. — Путнику надлежит продолжать свой путь.
— Не так должен бы я провожать… И надо ж было угодить на это копье!
— Ты не волнуйся, брат! Мне у вас оказывали знаки самого высокого уважения.
— А сам я даже угостить по-человечески не смог. Хоть подарок, что ли, на память тебе сделать… Кто там есть, войдите-ка!
Вбежавшему тут же порученцу Карагужак приказал:
— Выберите в табуне для гостя лучшего скакуна!
Порученец, склонив голову, повернулся к выходу.
— Не одного — двух! — добавил турэ вслед ему. — Для его жены — тоже.
— Спасибо, турэ! — сказал гость, приложив руки к груди. — Тогда уж и я оставлю тебе памятную вещь. Посмотришь, когда окрепнешь… Не спеша…
Шагали достал из внутреннего кармана небольшой кожаный сверточек, положил рядом с Карагужаком. Заметив во взгляде предводителя и удивление, и любопытство, пояснил:
— Бумага тут одна. Очень важное письмо…
— Письмо? Так давай развернем, прочитаем!
— Нет-нет, не сейчас! Говорю же — когда окрепнешь. Найдешь надежного человека, чтобы прочитал тебе.
— А зачем искать? Не по-тюркски, что ли, написано? Не по-нашему?
— По-нашему, но ведь и по-нашему мало кто умеет читать.
— Я одну зиму учился в Каргалах, отец послал…
— Прекрасно! Тогда прочитаешь сам и, коль найдешь нужным, ознакомишь своих акхакалов. Только не сейчас. Тебе нужен покой… Ну, еще раз — до свидания!
— До свидания, Шагали, до свидания, брат! Не забывай дорогу ко мне!
После отъезда гостя Карагужак-турэ заскучал. Он призывал к себе то акхакалов, то жен, но никто не нашел слов, которые улучшили бы его настроение, вернее, разговоры не помогли ему избавиться от душевного томления. Вечером велел позвать знахарей.
— Помогите мне сесть!
Когда его посадили, подперев подушками, потребовал зажечь свет.
При тусклом свете сальной свечи оглядел со всех сторон загадочный сверточек, оставленный гостем, потом с необъяснимым волнением развернул сафьян, извлек лист плотной бумаги. Забыв о боли, вызываемой даже малейшим движением, приблизил бумагу к пламени свечи. Письмо было написано куфической вязью со множеством завитушек, с первого взгляда стало ясно, что исполнено оно искусной рукой. Но странное дело: письма принято начинать с «бисмиллы», а тут восславления аллаха не видно. Что же это за письмо, откуда?
В меру своей учености, по слогам, шевеля губами, Карагужак принялся читать.
Вот что он прочитал:
«Все народы, племена и роды, слушайте и уразумейте. Я царь, государь и великий князь Московский и прочих земель Иван Четвертый Васильевич, сию грамоту учинил, дабы ведомо вам было: веру вашу и обычаи ваши я обещаю хранить и ничем не притеснить. И то должно быть вам ведомо: землями, водами и богачеством вашим владеть вам самим. Нет во мне обиды на вас, а держу я сердце токмо на хана казанского Сафа-Гирея. Не страшитесь меня. Придите ко мне, и станете возлюбленными моими народами. Жить вам вольно подобно рыбе в воде, птице в небесах, зверю и всякой твари в поле и лесу. А который ясак вы отдаете ханам казанскому и ногайскому, того ясаку довольно мне вполовину. Всяк, уразумев сию грамоту, да вразумит инаких».
Карагужак почувствовал, что в горле у него пересохло и сердце забилось учащенно. Стараясь поглубже вникнуть в смысл грамоты, он перечитал ее. Задержал взгляд на круглой печати, оттиснутой в конце листа. В середине печати была изображена двуглавая птица. Присмотрелся внимательней — беркут.
— Беркут! — воскликнул Карагужак. — И там — беркут! Только почему у него две головы?

Приключенческая повесть известного башкирского писателя Кирея Мэргэна (1911–1984) о пионерах, которые отправляются на лодках в поход по реке Караидель. По пути они ближе узнали родной край, встречались с разными людьми, а главное — собрали воспоминания участников гражданской войны.
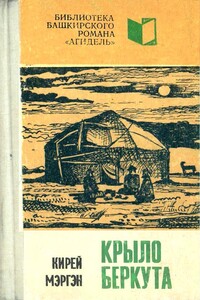
Вторая книга романа известного башкирского писателя об историческом событии в жизни башкирского народа — добровольном присоединении Башкирии к Русскому государству.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
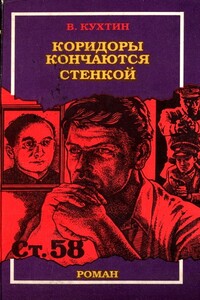
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
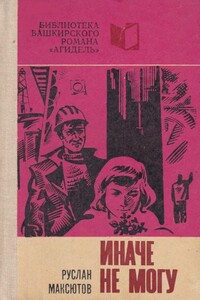
Описываемые в романе события развертываются на одном из крупнейших нефтепромыслов Башкирии. Инженеры, операторы, диспетчеры, мастера по добыче нефти и ремонту скважин — герои этой книги.
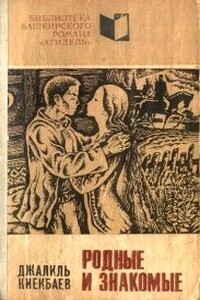
Роман о борьбе социальных группировок в дореволюционной башкирской деревне, о становлении революционного самосознания сельской бедноты.

Роман повествует о людях, судьбы которых были прочно связаны с таким крупным социальным явлением в жизни советского общества, как коллективизация. На примере событий, происходивших в башкирской деревне Кайынлы, автор исследует историю становления и колхоза, и человеческих личностей.