Крушение - [60]
Но разве в настоящем больше связности и полноты? Каждое утро в компании пролетария-синдикалиста, который, тщательно побрившись и утеплившись в «канадку»[36], спускается вниз продавать свою рабочую силу, Алькандр покидает на заре уснувший Трапезунд и трясётся в автобусе, дающем кругаля вниз по бульвару Родена; ежедневное погружение в долину в копоти первых «Голуазов»[37] — это снова брешь, вхождение в лимб, пробел вроде тех, которые постоянно вклиниваются и придают неопределённость его жизненному пути, как пунктирные линии, нанесённые на карты пустынь и обозначающие несмелый след Вади[38] в песках и каменных пустынях, где он лениво теряется. Зато теперь Алькандр не сталкивается с мерзкой братией управляющих барами, с фамильярностью коллег-музыкантов; со своим стадом вычислительных машин он общается на идеальном языке. Ему кажется, будто он растворяется в разреженном, сладковатом, тошнотворном, как анестетик, воздухе, в больничной тишине, которую вместо стука его сердца упорядочивает тихое пощёлкивание электроники. Сначала он думал, что любит эти машины за безграничную и терпеливую тупость, за сочетание в них непогрешимой логики и полного отсутствия воображения, что так отличало их ум от математического и так сближало с философами-рационалистами; вначале он развлекался тем, что устраивал им коварные ловушки, ставил скрытые капканы, которые с удовольствием предложил бы Спинозе или какому-нибудь другому гиганту мысли, и они невозмутимо «влетали» всеми своими схемами, реле и увесистой памятью. Он находил удовольствие в строгости их языка, который черпает своё подобие смысла в постоянстве связей между составляющими; честным получался разговор с этим прямолинейным разумом, чьи логические построения не могли быть искривлены никакими эмоциями, а независимые высказывания никогда не окрашивались реверберациями, ассоциациями, ложными реминисценциями, которые делают невыносимым интеллектуальное сосуществование с людьми. Только вскоре Алькандр заметил, что, не желая увязывать свои сообщения с предметами внешнего мира, добросовестные твари перекладывают это ненадёжное дело на него; и, несмотря на внешне убедительные безапелляционные утверждения, их ответы — это и наивные вопросы. Диалог с машинами вновь стал монологом, заводящим в тупик, и в жужжании электроники Алькандр слышит только усиленное эхо собственной мысли, а вместо всезнающих сфинксов видит вокруг лишь чудовищное отображение собственного мозга, представленное в увеличительных зеркалах.
Впрочем, беседуя с самим собой или с этими монстрами, он хотя бы познаёт в этих логических путешествиях высшее удовольствие — результат пробуждения сознания; каждый этап вычислений, каждый миг размышлений рядом с этими механическими умами, в тишине кабинета, где кондиционеры поддерживают микроклимат, как в эдаких ваннах мудрости с эфиром, который нужен для сохранения обнажённых органов мысли, каждый значок, нацарапанный на листе бумаги, даже если в нём обнаружилась ошибка и он стал бесплодной вехой на ложном пути, выбранном по рассеянности, позволяет ему от начала до конца проследить ход мысли, чуткой к тому, как стыкуются её тезисы. Однако рабочие дни с их сплошной канвой, вытеснив всё иное, оставили только череду собственных повторений и впоследствии начнут казаться ему такими же белыми пятнами, зияющими провалами в протяжённости его жизни. Ведь эти лакуны, с ужасом убеждается он, не навязаны ему извне — различными обстоятельствами, которые требовали бы его внимания и заставляли бы оторваться от главного; возвращающаяся усталость и неприспособленность к настоящему — лишь проявления внутренней раздробленности, непосредственные свойства бытия разнородного, противоречивого существа. Пока тело, обученное автоматикой, как будто само по себе совершает здравые и простые действия и, казалось бы, ничто не должно отвлекать разум от здорового пробуждения и бодрствования, на обратном пути в автобусе, когда всё, что видит Алькандр, это «канадка» соседа-синдикалиста, его осунувшееся за день лицо, сложенная вчетверо газета, где всего понемногу — и требования, которые никак не удовлетворят, и футбольные радости в утешение, — мысль его вдруг отвлекается, распыляется, перетекает с одного незначащего предмета к другому, выбранному походя. Он не раз попробует спуститься в бездны сознания, осветить мыслью дремлющий сумрак, исследовать провалы своей жизни. Но искать там нечего, как в давно пересохшем колодце, на тёмном дне которого в зарослях крапивы сохранился только разномастный мусор, попавший туда по нерадению деревенских. А ещё, когда автобус тряхнёт или он резко затормозит, Алькандр тут же пытается настигнуть самого себя в иных сферах, опрометью броситься в пустоту невнимания, как подростки, увлёкшиеся идеализмом, оглядываются проверить, что произошло со столом[39], пока они не смотрели, — ну-ка? Смотреть не на что: обрывки дурацких фраз, зачастую одних и тех же — «со вчерашнего дня императорская армия перешла в наступление по всем фронтам», «герцог и герцогиня N остановились в отеле, „Эксельсиор“» — а иногда и вовсе простенький ритм: ля-ля-тра-ля-ля. Ничтожные тайны сознания! Скудные проростки воображения! А он думал найти в глубинах пещеры сокровища Аладдина, место, где укрылась свободная сущность, посылающая индивиду свечение, украшенное мириадами возможностей? Для того, кто презрел всё поверхностное, хорошая находка — эта гниющая водная гладь в дебрях лабиринта, которая отражает гаснущие лучи далёкого солнца и слегка рябит, вторя приглушённому эху мира — ля-ля-тра-ля-ля-ля! Но мучительнее всего разрыв внутри его собственного существа, который обнаруживается в этих погружениях украдкой: с каким трудом находишь себя, если и не думал, что потерял! Как утомительно осознавать своё «я»! Да и какое «я»? Он, как и все, привык говорить о себе «я, Алькандр», тем самым имея в виду сущностное единство своих стремлений и фантазий; а теперь обнаружилось, что сердцевина его сознательной мысли смещена, что сама мысль силой вырвана из своих глубин и скреплена с предметами почти непреодолимой магнетической силой, а стоит ослабить внимание — поглощается ими; так что он обречён на изгнание в крайнем и самом бесславном его проявлении — он изгнан из собственного существа. И зияния, провалы, разрывы, в которых он винил обстоятельства, лишь умножают и грубо, поверхностно имитируют внутреннюю пористость, болезненную противоречивость его «я», множественность и рассредоточение его граней, похожих на тусклые зеркала, разнесённые на бесконечное расстояние.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.
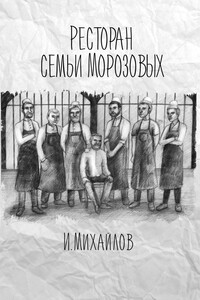
Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.