Варвара Алексеевна поглядела на Дунечку, перевела взгляд на ходившего по комнате Федора Федоровича, прикинула — а что ж? Почему не отдать? Правильные слова сказала Дунечка. Денег не дала братцу, вроде бы не по-родственному получилось. Может, дело поправит голосистая девка?
— Батюшка мой, — сказала Варвара Алексеевна, — послушай-ка…
Федор Федорович перестал ходить. Остановился: а вдруг передумала скаредная баба, даст денег взаймы?
— Коли по душе пришлась тебе девка, бери ее себе в Пухово. Может, сгодится для театра-то, а?
Федор Федорович удивился, какая девка? Вроде бы никакого разговора о девке у них не было. Но, вспомнив недавнее Дунино пение, обрадовался. А чего ж? Почему не взять? Хороша певунья! Подучить, так и правда сгодится для театра.
— Благодарствую, — ответил он. — Я не против.
— Вот и славно, сударь мой! Вот и бери ее себе! — обрадовалась Варвара Алексеевна и тут же позвала горничную Степаниду: велела, чтобы девку, которая лучше всех пела и плясала, отправили к братцу Федору Федоровичу. В Пухово, в его поместье.
— Это какую же? — спросила Степанида. На ее взгляд, нынче все девушки славно пели и плясали.
— Дунькой ее звать, — вмешалась барышня, со злорадным интересом прислушиваясь к разговору.
Степанида кивнула: стало быть, о Дуняше Чекуновой речь идет. Жаль Анисью. Только вырастила себе помощницу, и уже из семьи забирают.
— Да ее можно к Василию, к камердинеру моему на бричку посадить, — сказал Федор Федорович. — На бричке места хватит.
— На бричку так на бричку. Тебе виднее, — проронила Варвара Алексеевна.
И судьба Дуни была решена.
Глава седьмая
А лучина светло горела…
Тем временем Дуня спешила домой. Бежала и радовалась. Вся была переполнена счастьем.
Глянула на небо. Увидала яркую вечернюю звезду. И сердцу вдруг стало в груди тесно. Эх, подпрыгнуть бы повыше да схватить звезду! Уж покидала бы она ее из ладони в ладонь, будто уголек горячий… А потом обратно бы в облака закинула…
Ты свети, свети, моя звездочка! Ты свети, моя хрустальная! Пусть люди на тебя любуются…
Из-под Дуниных ног кто-то выпрыгнул. Шлеп-шлеп-шлеп — и с тропинки в траву. Дуня догадалась: лягушка. Подумала: «Меня испугалась? Глупая. Пучеглазая. Разве я тебя трону?»
Около реки налетел ветерок. Свежий и душистый. Холодком обвеял Дунины горячие щеки. Дуня и ветерку рада: где побывал? Откуда взялся? Уж не из-за леса ли? А может, из тех мест, где лунными ночами в озере русалки плещутся?
Всему сейчас радовалась Дуня — и ветерку, и лягушке, и звездам, и гостинцам, которыми одарили ее за песни и пляску.
Все гостинцы увязала она потуже в платок. И оба пряника медовых тоже.
Пока бежала домой, прикидывала, кому что даст. От одного пряника — не утерпела, отведала: самый чутошный кусочек отщипнула. И сладкий же, и вкусный!..
Хоть час и не очень поздний, а в деревне темно. Лишь кое в каких оконцах огоньки теплились. Все спали. Завтра чуть свет на работу. На барских лугах косить начали.
И у них в избе темень. Тоже легли спать. Но Дуня не поглядела, что спят. С размаху пихнула дверь ногой. Ворвалась в избу. Зашептала громко, с ликованьем:
— Мамушка! Бабонька!
В избе теплая тишина. Чуть кисловатый привычный запах дыма. Слышно дыхание спящих ребятишек.
— Тише ты, чумовая! — услыхала она сердитый голос матери. — Не видишь, что ли? Полегли все, спят давно.
Но Дуне самой сейчас не до сна, не хочется, чтобы и другие спали. Она крикнула на этот раз громко и весело:
— Гляньте, гляньте-ка, каких гостинцев я принесла. Братики!
Тут-то уж все проснулись, все повскакали, тут-то уж всем спать расхотелось.
Первым к Дуне подбежал старший, Демка. За ним — Андрюха с Ваняткой. Захныкал самый меньшой — Тимоша. Кряхтя поднялась с лавки старая бабушка. Мать слезла с печи, вздула уголек и, защемив в светец, зажгла лучину.
Тогда Дуня развязала платок и все по столу раскинула: глядите! любуйтесь! чего я вам принесла!..
Потом стала всех оделять: Демке — полпряника; Андрюхе — полпряника. А уж второй пряник разделила на троих — кусочек Тимоше, кусочек Ванятке, а кусочек сунула слепой бабке — пусть отведает.
— Тебе, мамушка, пирог, — сказала Дуня, протягивая матери горбушку. — Глянь, какой белый! — и прибавила чуть ли не с гордостью: — Вон какие пироги-то наши господа едят. Знатные!
— А себе-то, себе! — за нее самое заступилась мать.
Но Дуне вроде бы самой и не хочется, так радостно ей глядеть на братьев и старую бабку.
Лучины в этот вечер, как на подбор, попались сухие и пылкие. Одна догорала, мать зажигала новую и снова защемляла в светец. И каждая новая, казалось, горела ярче и светлей прежней. Обгоревшие концы, загибаясь крючком, ломались, падали в плошку с водой и с веселым шипением там угасали…
Дуня же все рассказывала, рассказывала. И летала по избе, и показывала, как плясала. И темная коса с лазоревой лентой летала по избе вместе с ней. А круглые медные пуговки на ее сарафане, колотясь друг о дружку, и бренчали, и звенели, и будто звон бубенцов стоял в избе…
Слепая бабка невидящими глазами смотрела на Дуню и улыбалась. Улыбка на ее морщинистом, потемневшем от тяжкой доли лице была такая, что вроде бы самое лучшее, что в жизни ей было уготовано, сейчас перед нею.
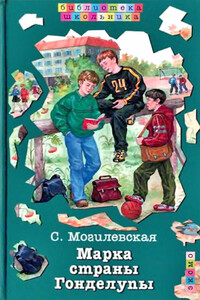



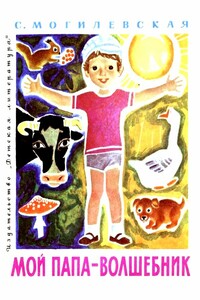
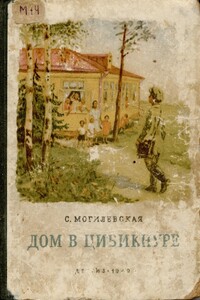



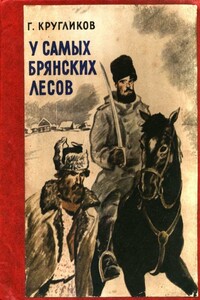
![Девять возвращений [Повести и рассказы]](/storage/book-covers/ed/ed7af831d7446cc273c19395f0b07a748a40724c.jpg)
