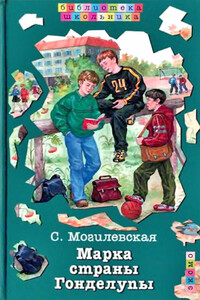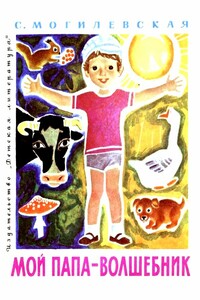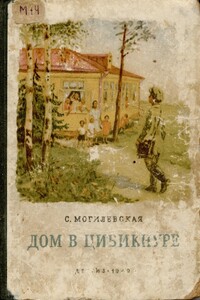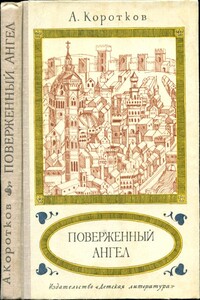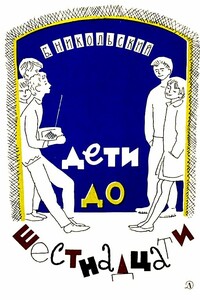Отойдя в сторонку, Дуня прислонилась к березе, которая росла близ дома, опустила вниз обе руки, чуть вскинула голову, помолчала и запела:
Ах! Когда б я прежде знала,
Что любовь родит беды,
Веселясь бы не встречала
Я полуночной звезды…
Все больше и больше удивлялся Федор Федорович Дуне — этой простой деревенской девочке. Откуда это у нее? Удивлялся он не только чистоте ее высокого звонкого голоса, но и тому, с какой полной беззаветностью отдает всю себя песне.
А эту песенку откуда она знает? Ведь совсем недавно стали ее петь московские барышни. Но до чего же правильно ведет мелодию! И слова запомнила, ничего не спутала.
Дуня, спев одну песню, тут же начинала петь другую. И снова плясала. И опять пела — и чем дальше, тем охотнее. Радостно было у нее на сердце, что все слушают ее песни, что всем нравятся ее пляски.
Дворовые со всего господского дома столпились возле забора, чтобы послушать Дунино пение. Даже повар, дородный старик Савельич, утирая потный лоб, пришел из кухни.
Потом — уж куда больше! — сама барышня Евдокия Степановна вышла из-за стола. Придерживая на груди голубенький платочек, спустилась в сад. Подошла к Дуне. Спросила ее:
— Так тебя Дуней звать?
— Вестимо, Дуней, — с веселой усмешкой ответила Дуняша.
И вдруг они как-то сразу, обе вместе, вспомнили ту давнишнюю встречу в малиновых кустах, когда были они семилетними девчонками.
Дуня вспомнила, как испугалась барышня, когда она придумала, будто волк из леса бежит, а испугавшись, ревмя ревела. И стегал же ее отец вожжами, узнав, как она барышню перепугала… Вспомнив об этом, Дуня улыбнулась и слегка порозовела.
А барышне Дунечке припомнилось, что вот эта девчонка, которую хвалит сейчас дядюшка, когда-то нагрубила ей, задразнила се, дурой обозвала… Подумать только, ее, свою госпожу, посмела дурой обозвать! Тогда, придя домой, она плакала, жаловалась отцу. А отец утешал ее, обещал наказать дерзкую девчонку. Говорил: «А мы ее розгами! А мы ее розгами! Не плачь, Дунечка». Не наказал ли?
Припомнив все это, барышня Дунечка колюче посмотрела на Дуню, насупила светлые бровки, ничего более не сказав, отошла прочь.
Глядя ей вслед, Дуня удивлялась: ест небось досыта, спит мягко, на работу никто ее не гоняет, а из себя дробненькая… В чем только душа держится? Личико-то какое желтенькое — ни кровинки. Ах, бедная, бедная барышня Евдокия Степановна!
Барышня же Евдокия Степановна не только злопамятна, она и недоброй была. Поднимаясь из сада обратно на терраску, досадовала: чего это дяденька Федор Федорович размяк? Что хорошего нашел в этой чернявой девке? Ишь какие комплименты твердит: «Шарман, шарман…» Подумаешь, шарман! Ничего хорошего в ней нет. Девка как девка, а на язык дерзка.
«Будь моя воля…» — думала Дунечка. Подошла к креслу и села спиной к саду, на хороводы более глядеть не стала.
Совсем поздно девушек отпустили в деревню. Уже в небе Зажглась первая звезда. Погасли розовые закатные облака, и над лесом повис тонкий серпик молодого месяца. Лучи его протянулись до самой земли и, казалось, окунувшись в реку, затеяли игру с серебристой плотвой и пескарями…
Сладко пахло цветущей липой. Еще слаще пахла резеда на клумбе перед домом.
Напоследок барыня Варвара Алексеевна приказала одарить всех девушек. Кому дали рябиновой пастилы, кому — орехов, кому — пирогов. Дуне же приезжий барин самолично сверх того дал два пряника. Да не каких-нибудь, а медовых! Сроду таких пряников Дуня не пробовала. А угостив пряниками, барин сказал ей слова уже совсем понятные, а не какой-то «шарман»:
— Славно поешь и пляшешь… Кто тебя только обучил всему, красавица?
Дуня опустила глаза и ничего в ответ не сказала. Да и что говорить-то?
Жаворонок в небе песнями звенит. Разве его кто-нибудь учит? Соловей вечером над рекой заливается так, что сердце щемит. Откуда это у него? Пляшут стрекозы летним днем, кружатся, вьются… А разве они могут иначе?
Когда девушки ушли, буфетчик вынес канделябры со свечами, спросил: где хотят господа кушать? Куда ужин подавать? Сюда? Или в столовой на стол собрать?
Барышня зябко повела плечами и, отогнав нетерпеливой рукой комара, сказала: тут от комаров житья не будет, а холод такой, что и захворать недолго.
Перешли в столовую. Барышня приказала, чтобы ей подали морошки в сахаре и миндальных печений, больше ничего.
Федор Федорович ходил из угла в угол, переступая в мягких своих сапожках с пятки на носок и снова с пятки на носок. Думал: пожалуй, завтра надобно обратно домой. Загостился. С неделю тут живет. И еще в голове было: к кому бы ехать деньги занимать? Не думал, что сестрица Варвара Алексеевна не даст. Не думал, не думал… Что и говорить — скуповата стала! Видно, позабыла, как после смерти брата он отказался в ее пользу от деревеньки Дымовки. Конечно, так себе деревенька, а все-таки…
А Дунечка, вдруг что-то надумав, повернулась к матери. Недобрая усмешка скользнула по ее лицу.
— Маменька, а маменька… Отдали бы вы ту девку. Ну, которая дяденьке песнями да плясками по сердцу пришлась.
— Какую девку? Кому отдать-то, милая? — оторвавшись от своих мыслей, спросила Варвара Алексеевна.
— Ах, маменька! — Дунечку с досады передернуло. — Непонятливая вы до чего же стали. Ужас! Дяденьке Федору Федоровичу подарите, вот кому! Ту, что плясала нынче… Ту — чернявую!