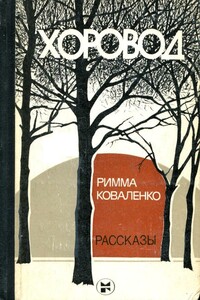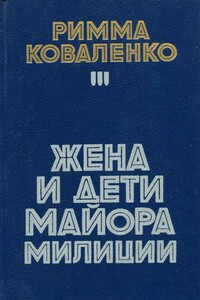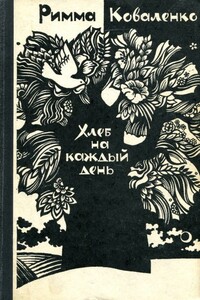Еще одна девочка с голубыми радужными глазами, в которых сияли печаль и мудрость, сразу же ворвалась в мою душу. Девочка из Ленинграда. Ира Сенюкова.
Класс был заполнен безжизненным теплом, какое бывает в младших классах к концу учебного дня. Сюда должна была бы войти обезьянка или влететь связка разноцветных воздушных шаров, чтобы все эти бледные дети встрепенулись, зажглись любопытством. На меня большинство из них глядело, как на неизбежный пятый урок.
Старшеклассники в их классе изредка появлялись. Их приход всегда был связан с поборами. В первом классе они собирали бутылки. «Кто сколько бутылок принесет, тот столько уничтожит фашистских танков». Потом собирали деньги. «Пусть каждый принесет, сколько может, — на ленинградских детей, на ремонт школы, на подарки в госпиталь и даже на Деда Мороза, чтобы накормить его перед школьной елкой».
— Ребята, я ваша вожатая. Кто хочет, останется, остальные пойдут домой.
Ушло больше половины класса. Я до сих пор не знаю, почему одни уходят, а другие остаются. Они сидели передо мной в красных новеньких галстуках. Кроме Иры, которая 23 февраля, когда принимали в пионеры, заболела. Значки из белой латуни с языками алого костра помнила среди этих людей только я. Они соединяли концы галстуков у довоенных пионеров. В войну латунь пошла, как и хлопок, на другие нужды. Мой третий класс носил шелковые галстуки, завязанные на груди узлом.
В эту нашу первую встречу мы просидели в классе до позднего вечера. Потом провожали друг дружку, объясняли с порога перепуганным родителям: «У нас был пионерский сбор». Нас осталось трое, когда мы подошли к дверям Аи Коркиной. Ее мама, высокая красивая женщина в белом платке на плечах, сказала мне и Шуре Жук:
— Заходите, у нас как раз чай.
Мы вошли в большую пустынную квартиру. На высоких окнах в столовой висели красные вязаные гардины, овальный стол окружали стулья, обитые кожей, с высокими спинками.
За стол сели молча. Хозяйка внесла самовар, из белых дверей в дали комнаты вышли две старушки и старик. На стол поставили сахарницу с голубым колотым сахаром и хрустальную чашу с маленькими кубиками сушеного хлеба. Поверх сахара и кубиков лежали щипцы, которыми этот сахар и сушеный хлеб надо было брать.
Я пила свой чай впустую. Шура лапой хватала кубик, вздыхая, запивала его чаем и, продолжая вздыхать, хватала другой.
Прощаясь, я сказала хозяйке:
— Вы извините нас, милая. Я только первый день у них вожатая, и они еще не знают, как надо вести себя в гостях.
«Они» были Шурой. Я извинялась за кубики хлеба, которые та, вздыхая, уничтожала. Айна мама грустно посмотрела на меня.
— Да, да, — сказала она, — вы научите, но, пожалуйста, прежде всего научитесь сами не говорить старшим «милая».
Мальчика звали Игорь. Он жил во дворе нашей женской школы и каким-то образом прибился к нам. Наверное, его кто-нибудь привел. Мы ставили пьесу «Золушка», и он явился к нам принцем, худенький, тоже, как Сенюкова, ленинградец, прекрасный, как подснежник, второклассник Игорь. Шура Жук, из которой принц не получился, уступила ему роль без обиды. Она в отряде как была, так и осталась мальчишкой. Игорь не покушался на эту ее роль, он был принцем.
Золушку тоже сменили. У Аи Коркиной был тихий голос, к тому же она была только принцессой, Золушка-работница из нее не выходила. А из Иры Сенюковой вышла. Она, как только взяла в руки веник, закружилась с ним по классу — то пометет, то поиграет на нем, как на балалайке, — и сразу все увидели: это Золушка. И еще глаза у нее были обещающими — она, как появлялась, сразу объявляла этими глазами, что с ней вот-вот случится нечто удивительное.
Сказку мы написали сами, по памяти. Золушка подметала пол, топила печку, несла воображаемую кастрюлю с супом и говорила:
— Ах, какой суп! В нем столько мяса, картошки и крупы, что ложка стоит и не валится.
Так начиналась пьеса.
Потом злые сестры и мачеха ели этот суп, чавкали и оскорбляли друг друга, потому что не только Золушку, но даже друг друга не любили.
На каждой репетиции пьеса обрастала новыми подробностями. Золушка убирала после еды посуду и говорила: «Сестры замуж очень хотят выйти. У меня есть на примете для них два жениха — Гитлер и Геббельс». Собираясь на бал, мачеха предупреждала дочерей: «Когда за стол сядете, на американскую тушенку не набрасывайтесь. Вы девушки нежные, ешьте только конфеты».
Уборщица тетя Таня заглядывала в наш класс, глядела на сдвинутые парты, на наши возбужденные лица и не ругалась.
— Когда театр свой закончите, парты на место поставьте.
Однажды мы напугали ее. Принц Игорь, танцуя с Золушкой, вдруг побелел как мел, присел и свалился на пол. Мы растерялись. Шура Жук побежала за водой, я стала трясти его и плакать от страха. Девочки тоже заплакали, нам показалось, что Игорь умер. Вбежала Шура с кружкой воды, за ней — тетя Таня. Она подняла мальчика, посадила на стул, поддерживая его голову и плечи. Шура поднесла к его губам кружку. Вода полилась, не попадая в рот, на галстук. Игорь открыл глаза.
— Ведите его домой, — сказала тетя Таня, — сил у него нет, поесть ему надо.
— Ничего, ничего, — успокоил нас Игорь, — это пройдет, у меня уже так было.