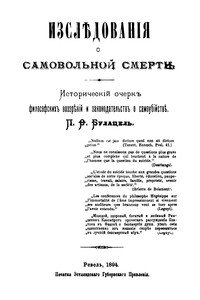Компульсивная красота - [12]
Акцент Бретона на слове «любовь» снова выглядит как компенсация, словно оно должно защитить от другого используемого им понятия: разрушения. Это касается и того значения, которое он придает разрешению, гегельянскому примирению таких противоположностей, как бодрствование и сон, жизнь и смерть: оно тоже напоминает компенсаторное сопротивление не только расщеплению субъекта, но и верховной власти дезинтеграции. Такое примирение служит raison d’ être[94] бретоновского сюрреализма: автоматизм призван разрешить оппозицию восприятия и репрезентации, объективная случайность — оппозицию детерминизма и свободы, amour fou — оппозицию мужского и женского и т. д.[95] Бретон относит все эти оппозиции за счет раскола, вызванного картезианским учением о человеке рациональном. Но является ли расщепленность, которую сюрреализм стремится преодолеть, расщепленностью картезианского cogito — или фрейдистской души? Не служит ли она делу психоанализа, самых его неоднозначных догадок, касающихся расщепленной субъективности и деструктивных влечений?[96]
«Фрейд стал моим Гегелем», — заметил однажды Бретон[97], и его сюрреализм — определенно гуманистический (первая коллективная декларация сюрреалистов гласит: «Il faut aboutir à une nouvelle déclaration des droits de l’ homme»[98][99]). Сюрреалистам не понадобились «Экономическо-философские рукописи» (1844) молодого Маркса[100], чтобы солидаризоваться с его проблематикой современного отчуждения и будущего освобождения: они тоже во многом исходили из человеческой природы, которая, будучи подавляемой, может быть освобождена, и им тоже хотелось рассматривать эту природу в категориях Эроса, не преследуемого его деструктивным Другим. В бретоновском сюрреализме это «раннемарксистское» понимание человеческого субъекта сталкивается с «позднефрейдистским»: если первое было официально признано, то второе витало в воздухе, проникало в сознание, отодвигалось на задний план[101]. Порой Бретон и компания старались разделить желание и смерть, противопоставить первое второй — чтобы в итоге обнаружить присутствие смерти в моментах желания. В других случаях они старались примирить желание и смерть (как в определениях сюрреальности, приводимых в двух манифестах), определить вторую посредством первого — чтобы в итоге ощутить, что этот момент примирения есть не что иное, как punctum нездешнего, точка, в которой желание и смерть пронизывают друг друга, исключая всякую возможность аффирмативного примирения[102].
Таким образом, если сюрреализм и впрямь служит психоанализу, его служба амбивалентна и порой неумышленна — как в тех случаях, когда сюрреализм стремится к освобождению, а в результате инсценирует повторение, или когда он провозглашает желание, а в результате предсказывает смерть. Как мы увидим далее, сюрреалисты в определенных своих опытах интуитивно постигают нездешние открытия психоанализа, порой — чтобы им противостоять, порой — чтобы с ними взаимодействовать, а порой даже — чтобы их мобилизовать: использовать, например, нездешние эффекты возвращения вытесненного, компульсивного повторения и имманентности смерти в подрывных целях, сделав эту психическую амбивалентность источником провокационной двусмысленности как в художественной практике, так и в культурной политике.
2. Компульсивная красота
Если автоматизм указывает на бессознательное не столько освободительно, сколько компульсивно, это тем более верно для чудесного — понятия, которое сменило автоматизм в роли основного принципа бретоновского сюрреализма. Предложенное Бретоном понятие чудесного имеет двух близких родственников: один из них, конвульсивная красота, впервые появляется в «Наде» (1928), о втором, объективной случайности, речь идет в «Сообщающихся сосудах» (1932), и оба приобретают законченность в «Безумной любви» (1937)[103].
В эпоху Средневековья чудесное свидетельствовало о нарушении естественного порядка вещей, которое, в отличие от чудотворного, необязательно имеет божественное происхождение[104]. Это расхождение с рациональной каузальностью существенно для «медиевистского» аспекта сюрреализма с его увлечением магией и алхимией, безумной любовью и аналогическим мышлением. Оно существенно также для его спиритуалистского аспекта, его тяги к медиумистическим практикам и готической литературе (например, произведениям Мэтью Грегори Льюиса, Энн Рэдклифф и Эдварда Юнга), где чудесное играет немаловажную роль

Ни для кого не секрет, что современные СМИ оказывают значительное влияние на политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь общества. Но можем ли мы безоговорочно им доверять в эпоху постправды и фейковых новостей?Сергей Ильченко — доцент кафедры телерадиожурналистики СПбГУ, автор и ведущий многочисленных теле- и радиопрограмм — настойчиво и последовательно борется с фейковой журналистикой. Автор ярко, конкретно и подробно описывает работу российских и зарубежных СМИ, раскрывает приемы, при помощи которых нас вводят в заблуждение и навязывают «правильный» взгляд на современные события и на исторические факты.Помимо того что вы познакомитесь с основными приемами манипуляции, пропаганды и рекламы, научитесь отличать праву от вымысла, вы узнаете, как вводят в заблуждение читателей, телезрителей и даже радиослушателей.
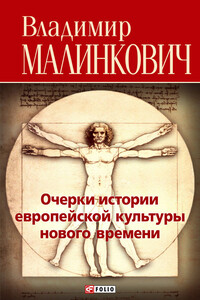
Книга известного политолога и публициста Владимира Малинковича посвящена сложным проблемам развития культуры в Европе Нового времени. Речь идет, в первую очередь, о тех противоречивых тенденциях в истории европейских народов, которые вызваны сложностью поисков необходимого равновесия между процессами духовной и материальной жизни человека и общества. Главы книги посвящены проблемам гуманизма Ренессанса, культурному хаосу эпохи барокко, противоречиям того пути, который был предложен просветителями, творчеству Гоголя, европейскому декадансу, пессиместическим настроениям Антона Чехова, наконец, майскому, 1968 года, бунту французской молодежи против общества потребления.

Произведения античных писателей, открывающие начальные страницы отечественной истории, впервые рассмотрены в сочетании с памятниками изобразительного искусства VI-IV вв. до нашей эры. Собранные воедино, систематизированные и исследованные автором свидетельства великих греческих историков (Геродот), драматургов (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан), ораторов (Исократ,Демосфен, Эсхин) и других великих представителей Древней Греции дают возможность воссоздать историю и культуру, этногеографию и фольклор, нравы и обычаи народов, населявших Восточную Европу, которую эллины называли Скифией.

Сборник статей социолога культуры, литературного критика и переводчика Б. В. Дубина (1946–2014) содержит наиболее яркие его работы. Автор рассматривает такие актуальные темы, как соотношение классики, массовой словесности и авангарда, литература как социальный институт (книгоиздание, библиотеки, премии, цензура и т. д.), «формульная» литература (исторический роман, боевик, фантастика, любовный роман), биография как литературная конструкция, идеология литературы, различные коммуникационные системы (телевидение, театр, музей, слухи, спорт) и т. д.

В книге собраны беседы с поэтами из России и Восточной Европы (Беларусь, Литва, Польша, Украина), работающими в Нью-Йорке и на его литературной орбите, о диаспоре, эмиграции и ее «волнах», родном и неродном языках, архитектуре и урбанизме, пересечении географических, политических и семиотических границ, точках отталкивания и притяжения между разными поколениями литературных диаспор конца XX – начала XXI в. «Общим местом» бесед служит Нью-Йорк, его городской, литературный и мифологический ландшафт, рассматриваемый сквозь призму языка и поэтических традиций и сопоставляемый с другими центрами русской и восточноевропейской культур в диаспоре и в метрополии.

В новой книге теоретика литературы и культуры Ольги Бурениной-Петровой феномен цирка анализируется со всех возможных сторон – не только в жанровых составляющих данного вида искусства, но и в его семиотике, истории и разного рода междисциплинарных контекстах. Столь фундаментальное исследование роли циркового искусства в пространстве культуры предпринимается впервые. Книга предназначается специалистам по теории культуры и литературы, искусствоведам, антропологам, а также более широкой публике, интересующейся этими вопросами.Ольга Буренина-Петрова – доктор филологических наук, преподает в Институте славистики университета г. Цюриха (Швейцария).

Это первая книга, написанная в диалоге с замечательным художником Оскаром Рабиным и на основе бесед с ним. Его многочисленные замечания и пометки были с благодарностью учтены автором. Вместе с тем скрупулезность и въедливость автора, профессионального социолога, позволили ему проверить и уточнить многие факты, прежде повторявшиеся едва ли не всеми, кто писал о Рабине, а также предложить новый анализ ряда сюжетных линий, определявших генезис второй волны русского нонконформистского искусства, многие представители которого оказались в 1970-е—1980-е годы в эмиграции.

«В течение целого дня я воображал, что сойду с ума, и был даже доволен этой мыслью, потому что тогда у меня было бы все, что я хотел», – восклицает воодушевленный Оскар Шлеммер, один из профессоров легендарного Баухауса, после посещения коллекции искусства психиатрических пациентов в Гейдельберге. В эпоху авангарда маргинальность, аутсайдерство, безумие, странность, алогизм становятся новыми «объектами желания». Кризис канона классической эстетики привел к тому, что новые течения в искусстве стали включать в свой метанарратив не замечаемое ранее творчество аутсайдеров.

Что будет, если академический искусствовед в начале 1990‐х годов волей судьбы попадет на фабрику новостей? Собранные в этой книге статьи известного художественного критика и доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге Киры Долининой печатались газетой и журналами Издательского дома «Коммерсантъ» с 1993‐го по 2020 год. Казалось бы, рожденные информационными поводами эти тексты должны были исчезать вместе с ними, но по прошествии времени они собрались в своего рода миниучебник по истории искусства, где все великие на месте и о них не только сказано все самое важное, но и простым языком объяснены серьезные искусствоведческие проблемы.