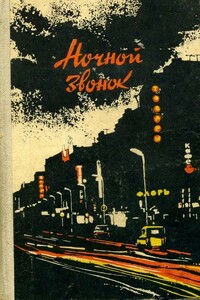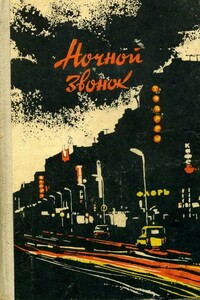К тому же Елене все время казалось — о матери думает она одна, Полина же — лишь бы поскорее уехать. День начался с того, что мать, спотыкаясь и охая, стала искать, «девяносто три рубля», по ее слову, они лежали у нее под матрасом, а теперь их не было. Сначала обратилась к старшей дочери:
— Ты взяла, Ленка? Елена ответила в сердцах:
— Спятила ты вовсе, мать! Да что же это такое, Господи?! Кто взял деньги? Где они? — и повернулась к Полине. Та заголосила:
— Уж не думаешь ли ты, что я воровка?
Елена, открыв было рот, вовремя опомнилась, лишь махнула рукой. Полина, не дождавшись ответа, выскочила из дома, так хлопнув дверью, что все задрожало.
Странное, горькое чувство захлестнуло Елену. Да еще она увидела в зеркале свое лицо — старое и омертвевшее от не нашедшего выхода раздражения. Да разве так уж и давно это самое зеркало отражало прелестную нежную румяность щек, светившуюся в глубине глаз надежду на счастье.
Ей захотелось упасть где-нибудь в глухом, не видном никому углу, плакать безутешно и так долго, чтобы всей изойти слезами и горем. Но, прислушавшись к себе, она замерла: где-то в самой сердцевине ее существа, еле-еле ощутимый, загорелся крохотный огонек, ничего такого уже давным-давно она не ощущала.
Потыкавшись в доме в полном одиночестве, она так ничего и не поняла. Что это было, и почему сейчас, в такую минуту, после всех этих ужасных сцен с дураками, с сестрой? Огонек же тихонько, подрагивая, все разгорался и разгорался. Согревая ее омертвевшее, зачерствевшее сердце.
Быстро одевшись, выскочила на улицу. В центре поселка увидела Полину.
— Ты куда это? — спросила с легким подозрением.
— К Белому Ручью. Помнишь, ты коз пасла, и меня с собой несколько раз брала… — тихо сказала младшая сестра.
— А-а… — в голосе Елены было и удивление, и что-то еще, что Полина уловила не сразу: мягкость, понимание. Что-то преобразило лицо ей, оно стало нежным и красивым, почти как в юности. — И я с тобой.
Сестры вышли на дорогу, которая вела на окраину поселка. Когда-то здесь были деревянные тротуары, теперь они исчезли, лишь валялись остатки гнилых досок на обочине. А дорога была рыхлая, и непрерывно гудевшие, обгонявшие пешеходов машины широко разбрасывали вокруг себя жирные комья грязи. И до того это было что-то безысходно-противное, отчаянно вместе с тем тоскливое, что Елена почти вскрикнула:
— Пошли назад! — и сестры, повернувшись, почти побежали к дому.
Еще сворачивая за угол, Елена поняла: кто-то колет дрова. Она вся устремилась туда, и слухом, и чувством, это был такой здоровый, такой живой звук — колка дров. Изумленно переглянувшись, сестры увидели: работают оба дурака. Мотя и Гриша. Каждый — в своем углу. Как это они оказались вместе?
Мать, суматошливо подскакивая на негнущихся ногах, подбежала к ним.
— Женька их привела, накормить велела, голодные они!
— Вот что, Полина, — повернувшись к сестре, сказала Елена, — вари все, что есть. И те большие банки тушенки доставай!
— Достану… Сварю.
— Нет, погоди, давай переоденемся, поработаем вместе с ними, а потом вместе обед приготовим.
Еще через несколько минут двое умных и двое дураков дружно работали рядом: дураки кололи, умные складывали поленницу. И не было сейчас на свете, кажется, лучшей картины, если бы не голос матери: «Доченьки, не покидайте меня, не уезжайте, доченьки!»