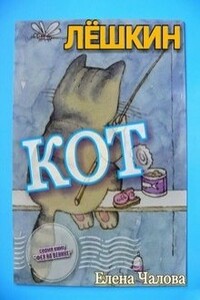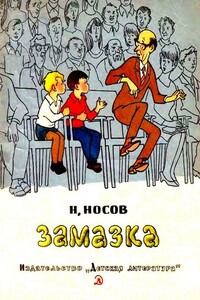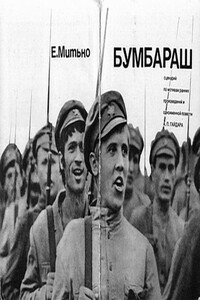Там на тонких розовых ветвях,
В зарослях черемухи душистой,
Соловей российский, славный птах…
— Блеск! — ему так нравилось, что все получается, он схватил гитару, и полились громкие, во всю силу, надрывные аккорды.
Коля орал:
Из полей уносится печаль.
Из души уходит прочь тревога,
впереди у жизни только даль,
Полная надежд людских дорога!
На Копейкина больно было смотреть, да Джульетта Ашотовна старалась и не глядеть в его сторону. Он нахмурился и вдруг сорвался, выбежал из квартиры, хлопнув дверью.
Джульетта Ашотовна только всплеснула руками, а Коля, ничего не замечая, продолжал орать:
— А вот еще. Эту ты знаешь точно!
Листья желтые над городом кружатся,
С тихим шорохом нам под ноги ложатся,
И от осени не спрятаться, не скрыться…
Автомобильная сирена пронзительно гудела на все окрестные дворы. Возле машины-такси собрались прохожие, а Коля бегал вокруг, пытаясь открыть двери, но двери были заперты.
В машине сидел Копейкин, не обращая внимания на крики, ругань, возмущенные и недоуменные возгласы; он неотрывно смотрел в зеркальце.
Коля грозил, умолял, взывал — Копейкин ничего не слышал.
И только когда он увидел приближающегося милиционера, открыл дверцу, выскочил из машины и побежал.
Последнее, что он слышал, были слова милиционера:
— Ваши права, гражданин!
Дверь была не закрыта, Копейкин неслышно вошел в прихожую и остановился. Джульетта Ашотовна все еще сидела за роялем, уставшая, сникшая, униженная, и смотрела в одну точку.
Она скорее почувствовала, чем услышала, что Копейкин здесь. Вдруг улыбнулась такой знакомой, светлой улыбкой:
— Слушай, как это там поется?.. «Птах»? — Она засмеялась. — Неужели так и поют?
— Так и поют… — Копейкин тоже улыбнулся. — Там вас ребята ждут… А мне еще за хлебом надо…
— Спасибо!..
Танцы были в разгаре. Хотя правильнее было бы сказать — «танец», потому что танцевал один Кристаллов, а все остальные, затаившись, смотрели на него с восхищением. Ах, как он танцевал! Он был пластичен, изящен и легок — этакий современный, красивый, ловкий юноша. Действительно, глаз не оторвать!
Но Горошкина избегала его весь вечер, и сейчас, когда все о ней забыли, она стояла у стола, протирая стаканы. Никто не видел, что глаза ее были полны слез. Это были не только слезы досады — это были слезы потери, разочарования. Это были слезы очищения… Наверное, это были первые настоящие, недетские слезы…
Потом она незаметно выскользнула на балкон.
Уже стемнело, повсюду зажглись огни, сквозь слезы она смотрела на вечерний город…
А внизу, у подъезда, какая-то женщина кричала:
— Ну что там опять с лифтом? Безобразие! Три месяца чинили! И опять черт знает что творится!
Когда Горошкина оказалась на лестничной клетке, с лифтом действительно творилось что-то невероятное.
Странное это было зрелище: лифт ходил то вверх, то вниз. Едва остановившись, он снова начинал свое бессмысленное движение. Вверх-вниз, вверх-вниз… Свет горел, но в лифте никого не было видно. Словно его носила неведомая сила.
Горошкина подошла вплотную и, когда лифт поравнялся с ней, заглянула в кабину. В углу, прямо на грязном полу, сидел Копейкин, прислонившись к стенке, и ел. Он ел хлеб, разламывая буханку, облизывая пересохшие губы. Глаза их встретились. Он встал, прильнув к стеклу.
Лифт ездил туда-сюда, и каждый раз он тревожно вглядывался: не ушла ли?..
Но Горошкина и не думала уходить. Она стояла, ждала, смотрела, и какая-то неясная улыбка озаряла ее лицо…
Лифт ходил вверх-вниз, не останавливаясь, и Копейкин каждый раз встречался с ней глазами — и вдруг понял: она не уйдет. Она так и будет стоять, ждать, смотреть — без конца.