Классы наций. Феминистская критика нациостроительства - [63]
Если отрешиться от этого взгляда, то текст Ольги Дедок можно было бы рассматривать как свидетельство эпохи, ее повседневности, вкуса и запаха и материи жизни, и этим воспоминания художницы интересны, помимо обычных читателей, для социальных историков, культурологов или антропологов советского времени. Например, автор рассказывает о школе начала 1920-х:
«Потом ввели “комплексный метод”. Изучаемый предмет изучался в комплексе на всех уроках. Например, в программе “Корова”. По зоологии изучалась корова, ее пищеварение, кровообращение, классификация. По литературе – все, что написано о корове поэтами всех времен (“Уж как я ль свою коровушку люблю!”). Географы объясняли, на каких широтах и континентах живет корова, а историки придумывали, какую роль играла корова в исторических событиях. Словом, изучали корову всесторонне…»[304]
Помимо этой «материи жизни», которая в том или ином виде присутствует в мемуарах всегда, воспоминания Ольги Дедок – это еще и история того первого поколения, которое не «выбирает» новую жизнь, но уже находит себя живущими в «коммунистической эре». Воспоминания одной из тех, кто с новой властью связывает возможность пойти в школу, прочесть книги, которые раньше вряд ли были бы доступны, поехать учиться в Ленинград, поступить в Академию художеств, прочесть, увидеть, понять, думать, стать. Все то, что социальная теория, характеризуя советскую эпоху, определила в терминах вертикальной социальной мобильности и приобретения культурного капитала «массами трудового народа». «Что еще характерно для поколения, – писал Лев Аннинский (в статье об Ольге Берггольц), – получившего из рук Советской власти земной шар и как реальное наследие, и как поэтический символ, – так это полное отсутствие страха перед литературой, перед профессиональной высотой, которую надо “взять”. Все – изначально твое! Поэзия, проза, печать»[305]. Художественное творчество, скульптура, мастерство:
«Большую роль для меня сыграло то, что мне дали стипендию. Я смогла больше не брать денег у мамы и сестры и все равно была богаче, чем год назад. 33 рубля – это больше, чем 30, и не надо платить 10 за комнату – общежитие стоит гроши. В такой комнате мне жить еще не приходилось. Третий этаж в бывшем дворце, комната большая, светлая, с балконом на Неву, паркет, лепные потолки и нас только трое: Надя Кучерова – моя однокурсница, высокая смуглая украинка из Симферополя; Катя Алексеева – гладко причесанная, коротко остриженная по-крестьянски, в кружок, с характерным волевым, с горбинкой носом и голубыми маленькими глазами. Она была уже на втором курсе и сразу же стала главной. Третья – я»[306].
И культура и искусство вокруг:
«С первых дней в Ленинграде я ходила не только в театры, но и в филармонию. Не могу понять, почему я, девочка, начисто лишенная слуха, любила музыку? Даже в Гомеле, помню, останавливалась под чужими окнами и слушала чужую игру на рояле. И здесь я стала ходить в концерты. Теперь я ходила со всей семьей. Был какой-то Бетховенский юбилей, приехали немецкие дирижеры: Отто Клемперер, Штидри. Я прослушала все девяносто симфоний. Все годы жизни в Ленинграде я запасалась абонементом в филармонию»[307].
Это воспоминания «советского человека»: ведь «овладение культурой» входило в арсенал эпохи. Хотя Ольга Дедок становится свидетельницей погрома в Академии художеств, устроенного «пролетарским» ректором, стремящимся «сбросить классику с корабля современности», и помнит любимую учительницу, расстрелянную в начале 20-х за «связь с заграницей»; несмотря на споры, которые будут идти в ее семье в связи со сталинскими репрессиями, и то, что некоторые ее близкие окажутся «на другой стороне», ее отношение к советской власти – это отношение к родине: той, которая в страшной войне защищала справедливость. Женщина, видевшая, как летом 1941 года гнали по минским улицам колонны советских военнопленных – где она и надеялась, и боялась увидеть мужа – и к кому в дом постучалась за спасением еврейская подруга с маленькой дочкой, искать в сложной истории XX века другие «оттенки» не считала возможным. Либо – можно ли это допустить – не считала возможным потому, что военный этос стал в Советской Белоруссии основой для конструирования идентичности нескольких поколений? И память о войне была выстроена (всей идеологической машинерией) как не допускающая «интерпретаций»? Где в таком случае заканчивается в воспоминаниях личное и где начинается политическое? И можно ли вообще их разделить?
Если же вернуться к самому главному в автобиографическом повествовании – к стремлению сказать «я была» и «я была такой», то что именно пытается донести, что хочет разъяснить «художница», которая художницей смогла стать не вполне? Ради чего, собственно, пишет? Какое «я» все время пытается объяснить?
Ее рассказ – непосредственно о том, «почему художниц так мало», иначе говоря, как все-таки получилось, что та, которая так стремилась, так хотела, так много работала, так мечтала – и не стала… Куда, во что ушли порыв, и воля, и напор, и желание… Они ушли… в любовь. В дом. В детей. Даже не в том (или не только в том) смысле отсутствия «своей комнаты», о которой писала Вирджиния Вульф, когда:

Николай Афанасьевич Сотников (1900–1978) прожил большую и творчески насыщенную жизнь. Издательский редактор, газетный журналист, редактор и киносценарист киностудии «Леннаучфильм», ответственный секретарь Совета по драматургии Союза писателей России – все эти должности обогатили творческий опыт писателя, расширили диапазон его творческих интересов. В жизни ему посчастливилось знать выдающихся деятелей литературы, искусства и науки, поведать о них современным читателям и зрителям.Данный мемориальный сборник представляет из себя как бы книги в одной книге: это документальные повествования о знаменитом французском шансонье Пьере Дегейтере, о династии дрессировщиков Дуровых, о выдающемся учёном Н.
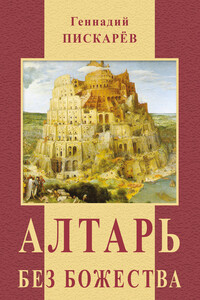
Животворящей святыней назвал А.С. Пушкин два чувства, столь близкие русскому человеку – «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Отсутствие этих чувств, пренебрежение ими лишает человека самостояния и самосознания. И чтобы не делал он в этом бренном мире, какие бы усилия не прилагал к достижению поставленных целей – без этой любви к истокам своим, все превращается в сизифов труд, является суетой сует, становится, как ни страшно, алтарем без божества.Очерками из современной жизни страны, людей, рассказами о былом – эти мысли пытается своеобразно донести до читателей автор данной книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.