Классы наций. Феминистская критика нациостроительства - [62]
Со времен «Второго пола» Симоны де Бовуар женщина рассматривается в качестве прототипа любого «угнетенного» как «молчащего»: всегда «другая» по отношению к главному носителю (андроцентричной) культуры, она тем самым отстранена от производства смысла, создания языка и порождения значений. Угнетенные «молчат» или «не могут говорить» в том смысле, что за них (кем бы они ни были) или от их имени всегда говорит доминирующая культура, интерпретируя за них их опыт и вкладывая в их уста «чужие» тексты: такие, какие они только и должны порождать, чтобы соответствовать ее неписаным установлениям (например, быть «женственными»). Социолог Пьер Бурдье, обозначивший такой властный контроль как «цензуру», писал, что «цензура никогда не бывает такой совершенной и невидимой, как тогда, когда цензурированному нечего сказать, кроме того, что ему позволено сказать: в этом случае ему даже не надо быть своим собственным цензором, потому что он цензурирован раз и навсегда»[301].
Следовательно, вопрос о том, почему художниц так мало, является одновременно вопросом о причинах молчания «другого». Ответ на него сложен и должен быть начат с того, что «всемирный искусствоведческий текст», который на века определил и легитимировал канон великого, или признанного, искусства, не является ни объективным, ни единственно возможным. Он есть порождение определенного социального порядка, регламентирующего кому (и что) можно говорить и писать, – и тогда «художниц» так мало потому, что их, согласно канону, не должно было быть: женщины, как принято считать, не творцы, а музы, созданные мужским воображением и существующие благодаря мужскому взгляду. Их – кем-то увиденных (рассказанных или нарисованных) героинь чужого искусства – не могло быть без зрителя, и они сами должны были научиться существовать для смотрящего на них мужчины и только в пределах этого чужого зрения.
«Художниц» так мало потому, что женщин так долго не учили «рисовать», полагая, что им этого не надо. «Рисование» – или овладение речью, или обретение своего голоса, или чтение – вовсе не безделица. «Сначала надо украсть ключ от библиотеки»[302], – писала французская философ феминистской ориентации Элен Сиксу, имея в виду вхождение женщин в пространство интеллектуального творчества и обозначив (как и Умберто Эко) метафорой библиотеки, ключ от которой надо украсть, структуру накопленного человечеством знания.
«Художниц» так мало потому, что у женщин никогда не было «своей комнаты» – как обозначила пространство, как физическое (студия, мастерская, да просто комната, в которой не варится обед и не кричат дети), так и духовное, предназначенное для творчества, Вирджиния Вульф в одноименном тексте 1929 года…[303]
«Художниц» так мало потому, что темы, порожденные женским опытом, мелки, интересны только части человечества, а часто и неприличны – в отличие от глобальных тем мужского художественного мира. Созданное ими не может не быть безделицей, «женской литературой», которой не место в истории. Но – возвращаясь вновь к поставленным ранее вопросам – кто те судьи, которые знают, какие темы всемирны, а какие нет? Кто наделил их правом судить? На основании какого критерия определяют они «всемирность»?
«Художниц» так мало потому, что для того, чтобы утвердить право на «женское» как самостоятельное, автономное, надо разрушить канон…
По всем этим причинам самого глобального свойства текст «художницы» Ольги Дедок, открываясь сомнением относительно легитимности своего рассказа, несет в себе традиционное предубеждение против женского – будь то письмо, поэзия или что-либо другое – как вторичного или худшего, а иногда даже стыдного, как такого, что не должно «проявляться» и от чего следует открещиваться. И в то же время этот автобиографический текст самим фактом своего существования, теми вопросами, которые он ставит, и теми ответами, которые в нем прочитываются, – это предубеждение преодолевает.
Автобиография, как считают исследователи этого жанра, является орудием (само)познания. Внутренняя потребность рассказать о себе, чем бы она ни была вызвана, требует переопределения себя как по отношению к рассказываемым событиям, так и к тому моменту, из которого ведется повествование. Можно говорить о социальной обусловленности памяти и каждого индивидуального воспоминания, о постоянном воссоздании прошлого, осуществляемого каждый раз под влиянием настоящего. Таким образом, автобиографический текст, даже если он формально является документом частной жизни (не все воспоминания публикуются, а многие и пишутся с другой целью), тем не менее включен в «политическое» момента своего написания: политическое не в смысле отношения непосредственно к политике, а в смысле включенности в более сложные и повсеместные отношения власти, присутствующие во всем, что социально. Согласно известной феминистской формуле, личное есть политическое, а в автобиографии, очевидно, в наибольшей степени. Вспоминая, авторы оказываются несвободны от социальных установлений относительно того, что и как следует помнить, а чего как бы и не было; есть причины, по которым мы, вспоминая, хотим быть увиденными именно так, а не иначе, создаем именно такое «я», для чего отбираем одни события, а не другие, и рассказываем о них именно так, как рассказываем, искренне веря при этом, что так мы их запомнили «еще тогда», в момент их совершения. Однако содержание воспоминаний не существует само по себе, а каждый раз конструируется автором.
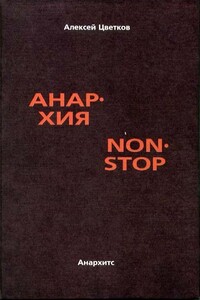
Анархизм, шантаж, шум, терроризм, революция - вся действительно актуальная тематика прямого политического действия разобрана в книге Алексея Цветкова вполне складно. Нет, правда, выборов и референдумов. Но этих привидений не встретишь на пути партизана. Зато другие духи - Бакунин, Махно, Маркузе, Прудон, Штирнер - выписаны вполне рельефно. Политология Цветкова - практическая. Набор его идей нельзя судить со стороны. Ими можно вооружиться - или же им противостоять.

Николай Афанасьевич Сотников (1900–1978) прожил большую и творчески насыщенную жизнь. Издательский редактор, газетный журналист, редактор и киносценарист киностудии «Леннаучфильм», ответственный секретарь Совета по драматургии Союза писателей России – все эти должности обогатили творческий опыт писателя, расширили диапазон его творческих интересов. В жизни ему посчастливилось знать выдающихся деятелей литературы, искусства и науки, поведать о них современным читателям и зрителям.Данный мемориальный сборник представляет из себя как бы книги в одной книге: это документальные повествования о знаменитом французском шансонье Пьере Дегейтере, о династии дрессировщиков Дуровых, о выдающемся учёном Н.
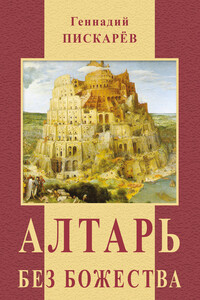
Животворящей святыней назвал А.С. Пушкин два чувства, столь близкие русскому человеку – «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Отсутствие этих чувств, пренебрежение ими лишает человека самостояния и самосознания. И чтобы не делал он в этом бренном мире, какие бы усилия не прилагал к достижению поставленных целей – без этой любви к истокам своим, все превращается в сизифов труд, является суетой сует, становится, как ни страшно, алтарем без божества.Очерками из современной жизни страны, людей, рассказами о былом – эти мысли пытается своеобразно донести до читателей автор данной книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.