Классы наций. Феминистская критика нациостроительства - [61]
О (не)возможности женской автобиографии[293]
Французский философ Мишель Фуко, характеризуя условия появления в дискурсе нового «объекта» (некоторой темы или точки зрения), исторические условия для того, чтобы о нем «можно было что-нибудь сказать» и чтобы многие стали о нем говорить, условия, необходимые для того, чтобы этот объект вписался в область родства с другими объектами, установил с ними отношения сходства, различия, преобразования – эти условия непросты и определяются структурой властных отношений[294]. Согласно Фуко, говорить о чем угодно в какой угодно период времени нельзя: распределение власти на поле символического производства не допускает этого самыми различными способами, и возможные «авторы речи» всегда несут в себе знание о том, что и кому позволено сказать.
Ольга Дедок[295] начинает свои «Воспоминания» как бы с некоторой неловкостью, вызванной тем, что она – женщина – вообще их пишет, потому что: «…мемуары женщины? Они всегда тенденциозны. Их цель – или доказать величие своих кумиров (своего кумира!), или оправдать себя в глазах потомства…»[296] Это стремление объясниться с возможным читателем вызвано пусть не всегда высказываемым, но присутствующим как в личном, так и публичном сознании убеждением, что «женское» – всегда вторичное, незрелое, всего лишь отражательное (в отличие от автономного – мужского) и в целом, что это «детство души». Пишущая (о себе) женщина почти всегда вынуждена оправдываться, оглядываясь на еще не существующего своего читателя. Ведь считается, что памяти и описания заслуживает лишь то, что признано значимым в истории, а женщины, в отличие от мужчин, редко рассаматриваются как участницы или инициаторы эпохальных событий.
В силу этого женские автобиографии, как указывает исследовательница женских автодокументальных текстов Ирина Савкина, находятся в положении тройной маргинальности. Существуя в тени «Великого канона» настоящей (и почти всегда мужской) литературы, они маргинальны, во-первых, в качестве автобиографий как таковых, будучи отнесены к пограничным текстам литературного поля, где со времен В. Белинского существует жанровый табель о рангах. Во-вторых, отмечает И. Савкина, – «в качестве женских текстов, второсортность и сомнительность которых “очевидна” для патриархатной критики»[297]. И, в-третьих, русские женские автобиографии являются бедными родственницами еще и потому, что литературоведческая традиция редко выделяла их как предмет своего непосредственного интереса, если речь шла о женщинах, не сделавших карьеры или не связанных с социально значимыми мужчинами[298]. Как самостоятельные документы они долгое время никого не интересовали.
С этой точки зрения некоторым формальным «оправданием» записям Ольги Дедок может служить то, что во время войны она спасла от смерти еврейскую девочку – и этот поступок, безусловно героический, заслуживает «увековеченья». Другим – что она была женой известного советского скульптора, одного из «авторов» художественного канона социалистического реализма, создавшего во время войны бюст Николая Гастелло, а впоследствии величественные мемориалы Победы в Минске. Поэтому сведения, которые можно почерпнуть из ее «Воспоминаний», могут быть важны историкам искусства или тем, кто занимается изучением немецкой оккупации в Белоруссии. Это внешние, формальные обстоятельства, которые позволяют отнести записи Ольги Дедок к разряду значимых, а потому дозволяющих публикацию.
Но если бы не постучалась осенью 1941 года в ее дом в оккупированном Минске ушедшая из гетто еврейская подруга с ребенком? Если бы «не пришлось» ей спасти человеческую жизнь и только чудом не отдать за это свою? Если бы не была она женой ставшего знаменитым человека? Тогда – что? – женская жизнь, ввиду отсутствия значимых достижений или участия в признанных историческими событиях, – вообще не «заслуживает» описания? Как сказал священник моей знакомой, пришедшей к нему с просьбой молиться об умершей некрещеной сестре: «Она как бы и не была на свете». Как если бы не было на свете этой жизни, если не совершено ничего «великого»?
Но кто те судьи, которые знают, что является великим, а что нет, – кто назначал их? Где взяли они тот канон, по которому следует мерить жизнь и право на память? И кому «дано» право голоса, речи и письма – как и кем? Это те главные вопросы, которые возникают при осмыслении женской автобиографии, т. е. речи о себе. Насколько можно считать ее феноменом творческой и интеллектуальной автономии и как вообще следует ее рассматривать, если попытаться выйти за рамки указанной «тройной маргинальности»?
Более тридцати лет назад американка Линда Нохлин в знаковой работе, положившей начало феминистскому пересмотру теории искусства, – а публикуемые «Воспоминания» написаны скульптором – спросила: «Почему великих художниц так мало?»[299] На самом деле она поставила вопрос не только «живописный», но гораздо более широкий – о «женском голосе» (в искусстве, культуре, памяти) вообще: почему его было почти не слышно в истории. Вопрос, который в различных своих «инкарнациях» – в отношении женщин, или цветных, или бедных, или мигрантов, или людей другой веры – волновал западную (постимперскую) интеллектуальную теорию всю вторую половину ХХ века и свое, очевидно, самое известное воплощение получил в ныне классической работе Гайятри Спивак «Могут ли угнетенные говорить?»
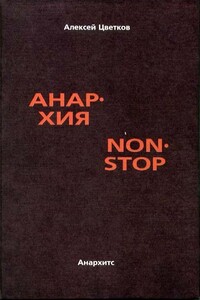
Анархизм, шантаж, шум, терроризм, революция - вся действительно актуальная тематика прямого политического действия разобрана в книге Алексея Цветкова вполне складно. Нет, правда, выборов и референдумов. Но этих привидений не встретишь на пути партизана. Зато другие духи - Бакунин, Махно, Маркузе, Прудон, Штирнер - выписаны вполне рельефно. Политология Цветкова - практическая. Набор его идей нельзя судить со стороны. Ими можно вооружиться - или же им противостоять.

Николай Афанасьевич Сотников (1900–1978) прожил большую и творчески насыщенную жизнь. Издательский редактор, газетный журналист, редактор и киносценарист киностудии «Леннаучфильм», ответственный секретарь Совета по драматургии Союза писателей России – все эти должности обогатили творческий опыт писателя, расширили диапазон его творческих интересов. В жизни ему посчастливилось знать выдающихся деятелей литературы, искусства и науки, поведать о них современным читателям и зрителям.Данный мемориальный сборник представляет из себя как бы книги в одной книге: это документальные повествования о знаменитом французском шансонье Пьере Дегейтере, о династии дрессировщиков Дуровых, о выдающемся учёном Н.
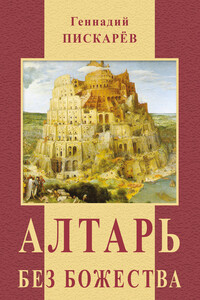
Животворящей святыней назвал А.С. Пушкин два чувства, столь близкие русскому человеку – «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Отсутствие этих чувств, пренебрежение ими лишает человека самостояния и самосознания. И чтобы не делал он в этом бренном мире, какие бы усилия не прилагал к достижению поставленных целей – без этой любви к истокам своим, все превращается в сизифов труд, является суетой сует, становится, как ни страшно, алтарем без божества.Очерками из современной жизни страны, людей, рассказами о былом – эти мысли пытается своеобразно донести до читателей автор данной книги.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.