Кёнигсберг - [4]
Достичь престижа Старого города или Кнайпхофа Лёбенихту никогда не посчастливилось. В Старом городе и Кнайпхофе проживало купечество, а в Лёбенихте – более «мелкая сошка»: ремесленники и солодовники-пивовары. С точки зрения оказания политического влияния Лёбенихт на протяжение всей своей истории вяло плёлся за Старом городом. Со временем – клин клином вышибают! – жители Лёбенихта стали даже гордиться этими ограничениями. В эпоху гуманизма они славили себя и свой городок, перефразировав латинское изречение «или Цезарь, или ничто или … солодовник из Лёбенихта», короче, в стихотворной форме:
А во времена Моцарта лёбенихтцы переработали текст знаменитой арии из «Дона Джованни» так:
Для завершения портрета средневекового Кёнигсберга нам осталось описать Кнайпхоф. С кабаками название городка ничего общего не имело (здесь – игра слов; «кнайпе» по-немецки означает «кабак». Прим. пер.). Имя «Кнайпхоф» восходит к старопрусскому слову «Книпав», названию болотистых окрестностей долины древней реки. Кнайпхоф был островом, состоящим из наносного песка и омываемым северным (земландским) и южным (натангским) Прегелем. Через Кнайпхоф можно было попасть с юга в Старый город. Дорога проходила через Зелёный мост (Грюне Брюке) и уже упомянутый Лавочный мост. По обеим сторонам мостов, как грибы после дождя, росли поселения торгового люда. Поэтому решение его преосвященства, Верховного Магистра Ордена Вернера Орзельнского учредить 6-го апреля 1327-го года в новом городке кульмское право и торжественно передать жителям грамоту «Хандфесте» соответствовало элементарной логике. Начиная с этого времени и до объединения городков в 1724-м году в единое целое, кёнигсбергские поселения стали называться «Три города Кёнигсберга».
Верховный магистр Вернер фон Орзельн (1280–1330).
Кнайпхоф обладал особым качеством, превратившим его в Новое время в своего рода культурный центр Кёнигсберга: в нём находился Кафедральный Собор. И, хотя сам епископ резидировал в Фишхаузене, соборный капитул остался в Кёнигсберге. Кроме того, местонахождение Кафедрального Собора автоматически налагало на него обязанность выполнять функцию приходской церкви кнайпхофской церковной общины. Перед началом строительства Собора необходимо было укрепить болотистую почву острова, вбив в грунт несколько сотен дубовых столбов, чтобы колосс строения не стоял на «глиняных ногах». Руководство строительством было доверено епископу Иоганнесу Кларе из Торна. Он принялся за дело энергично и с вдохновением. Работы над возведением стен хоров Кафедрального Собора были уже закончены, когда пред внутренним оком Верховного Магистра Ордена, Лутера Брауншвейгского, Предстали габариты будущеро строения. Пелена упала с его глаз, и ему внезапно стало ясно, какой гигант растёт в непосредственной близости от орденской резиденции, не просто собор, а собор-крепость! Проявлять терпимость по отношению к подобному дерзкому вольнодумству Орден не мог себе позволить. Епископу пришлось смириться с договором, ограничивающим проект строительства во множестве отдельных деталей, дабы Кафедральный Собор не доминировал над орденским Замком, отодвинув его на второй план.
Строительство Кафедрального Собора продолжалось пятьдесят лет. «Всего» пятьдесят лет, так как для эпохи Средневековья это означало рекордные сроки. Кафедральный Собор стал наряду с орденским Замком символом Кёнигсберга. Неф его с 1380-го по 1944-й год (в 1944-м году Кафедральный Собор был частично разрушен в результате бомбёжек, превративших великолепное строение в руину) не подвергался перестройкам. Надгробный памятник (материал – дерево) Верховного Магистра Орден Лутера Брауншвейгского, избравшего хоры Кафедрального Собора местом своего захоронения, также сохранился в полном своём великолепии вплоть до конца Второй Мировой войны. Самым старинным произведением искусства, украшавшим Кафедральный Собор, была купель (1300-й год, романский стиль), выполненная шведскими каменотёсами из готландского известняка.
Собор: западный фасад.
Внутри собора: лежащая деревянная фигура верховного магистра Лутера фон Брауншвейг (†1335).
Собор: вход в крестильную часовню (около 1595).
Собор: план первого этажа и купола с указанием периодов строительства.
Внутренний вид собора и княжеская могила. Литография Бильса с картины Юлиуса Карла Шульца 1833.
Внутренний вид собора. Литография Л. Е. Лютке 1833. За алтарем находится могила князя.
Вокруг Кафедрального Собора поселилось духовенство. Здесь со временем образовался настоящий городок, где проживали исключительно представители духовного сословия. В городке находилась побочная резиденция епископа, квартиры каноников, здания школы и лечебницы, зернохранилище и т. п. Здесь же поселилось небольшое количество лавочников и ремесленников – обстоятельство, ставшее яблоком раздора между новоприбывшими поселенцами и остальными обитателями Кнайпхофа.
На старинных городских планах «три города Кёнигсберга» производят миниатюрное впечатление, но нельзя забывать, что их площадь значительно расширялась за счёт других построек, носивших хозяйственно-практический характер. К их числу относились и так называемые «Ластадии» – строения Складского квартала, украшавшего берег Прегеля. «Ласатадии» являлись непосредственным центром экономической жизни Кёнигсберга. Хранилища для зерна и других сельскохозяйственных продуктов, увенчанные остроконечными фронтонами, типичными для всех ганзейских городов, придавали Кёнигсбергу особое очарование и чрезвычайно живописный вид. На территории Складских кварталов находился, кроме того, ряд технических сооружений и предприятий: погрузочно-разгрузочные краны для перевалки товаров, установки и снятия корабельных мачт, деревообрабатывающие предприятия по ремонту и производству корабельного деревянного оборудования, столярные ремесленные мастерские и др. Кёнигсберг выполнял функцию главного перевалочного пункта и центрального связующего звена между маршрутами морских торговых рейсов на Балтике с одной стороны и их продолжением в рамках речного корабельного транспорта с другой стороны. Из Кёнигсберга товары переправлялись дальше в Литву.
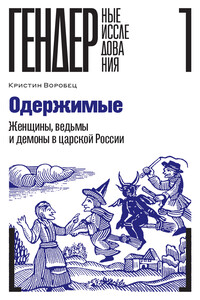
Одержимость бесами – это не только сюжетная завязка классических хорроров, но и вполне распространенная реалия жизни русской деревни XIX века. Монография Кристин Воробец рассматривает феномен кликушества как социальное и культурное явление с широким спектром значений, которыми наделяли его различные группы российского общества. Автор исследует поведение кликуш с разных точек зрения в диапазоне от народного православия и светского рационализма до литературных практик, особенно важных для русской культуры.
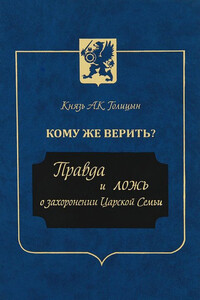
2013-й год – юбилейный для Дома Романовых. Четыре столетия отделяют нас от того момента, когда вся Россия присягнула первому Царю из этой династии. И девять десятилетий прошло с тех пор, как Император Николай II и Его Семья (а также самые верные слуги) были зверски убиты большевиками в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге в разгар братоубийственной Гражданской войны. Убийцы были уверены, что надёжно замели следы и мир никогда не узнает, какая судьба постигла их жертвы. Это уникальная и по-настоящему сенсационная книга.
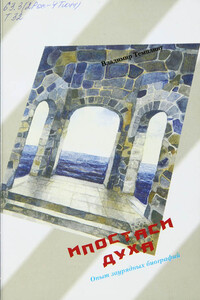
В книге повествуется о жизненных путях четырёх типичных для сибирского социального пейзажа фигур: священника-миссионера П. А. Попова, крестьянина, ставшего купцом-предпринимателем, Н. М. Чукмалдина, чиновника и одновременно собирателя фольклора П. А. Городцова, ссыльного религиозного оппозиционера П. В. Веригина, живших примерно в одно время (XIX – начало XX в.) – в бурную эпоху буржуазной модернизации. Их биографии – пример различных вариантов разворачивания жизненного пути на переходном этапе развития общества.Книга предназначена для историков, краеведов, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами истории края.
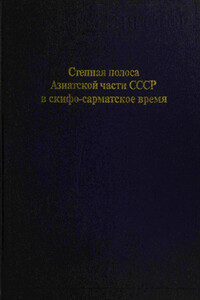
Том посвящен кочевникам раннего железного века (VII в. до н. э. — IV в. н. э.), населявшим степи Азии от Урала до Забайкалья. В основу издания положен археологический материал, полученный при раскопках погребальных и бытовых памятников. Комплексный анализ археологических источников в совокупности со сведениями древних авторов позволил исследователям реконструировать материальную и духовную культуру древних кочевников, дать представление об их хозяйстве, общественном строе, взаимоотношениях с окружающим оседлым населением, их экономическом развитии.

Чудесные исцеления и пророчества, видения во сне и наяву, музыкальный восторг и вдохновение, безумие и жестокость – как запечатлелись в русской культуре XIX и XX веков феномены, которые принято относить к сфере иррационального? Как их воспринимали богословы, врачи, социологи, поэты, композиторы, критики, чиновники и психиатры? Стремясь ответить на эти вопросы, авторы сборника соотносят взгляды «изнутри», то есть голоса тех, кто переживал необычные состояния, со взглядами «извне» – реакциями церковных, государственных и научных авторитетов, полагавших необходимым если не регулировать, то хотя бы объяснять подобные явления.

Предлагаемая читателю книга посвящена истории взаимоотношений Православной Церкви Чешских земель и Словакии с Русской Православной Церковью. При этом главное внимание уделено сложному и во многом ключевому периоду — первой половине XX века, который характеризуется двумя Мировыми войнами и установлением социалистического режима в Чехословакии. Именно в этот период зарождавшаяся Чехословацкая Православная Церковь имела наиболее тесные связи с Русским Православием, сначала с Российской Церковью, затем с русской церковной эмиграцией, и далее с Московским Патриархатом.