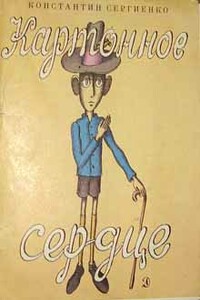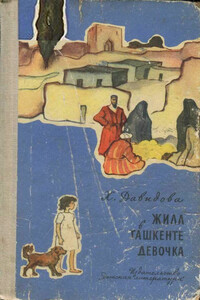– Это не есть порядок – убивайт малшик, – пробурчал Готескнехт.
– А если мальчик убивает вас, такой порядок вам нравится? – спросил дон Рутилио. – В Хаарлеме такой же пострел прикончил десяток здоровенных рейтар. Ночью он подтащил к палатке бочонок с порохом и пальнул в него издали. Ваших как не бывало, только пепел сыпался с неба…
– Уррр! – прорычал Готескнехт. – Я мало понималь эта страна.
– Сеньор! – снова затараторил Караколь. – У вас что-то со слухом неладно. Говорю, ведь, что эти голуби…
– Молчать! – сказал дон Рутилио. – А то всех повешу.
Мне показалось, что дон Рутилио разглядывает меня с интересом.
– Ума не приложу, – сказал он, – что с вами делать. Неужто и вправду повесить?
Мы замерли.
– Сержант Готескнехт, – обратился он к копейщику, – я завершу обход, а вы держите мальчишку до особого распоряжения. Может быть, им заинтересуется Вальдес. Парень совсем не дурак, должно быть, много знает о городских делах. Ждите приказа.
Дон Рутилио повернул коня и ускакал, а вслед за ним его конные латники.
Мы все перевели дух. По крайней мере, есть несколько часов, а там где наша не пропадала! Только бы коленки снова не начали трястись.
– Фуй… – отдувался Готескнехт. – Ошень, ошень смешной страна. Германия малшик не воевай, фуй… Я пропускаль один малшик город Гоорн прошлый год. Он вез свой больной муттер на санка. Я восхищаль этот малшик, фуй… Сейшас я не имей вас пропускаль. Ви слышаль приказ этот испанский вояк, доннер-веттер?
– Господин сержант, – затараторил я, – у меня хорошая память. Сеньор приказал держать меня до особого распоряжения. Но ничего не сказал про остальных. Про медведя и про девочку. Даже про хозяина фургона. Это правда его голуби. Но я прикидывал купить их для свадебного подарка от Помпилиуса. Господин сержант, отпустите их всех, сеньор вам ничего не сделает. Он ведь хозяин своему слову.
– Уф, уф! – пыхтел Готескнехт. – Хитрый…
– Неужели это вы пропустили мальчика, который вез больную мать, господин сержант? Об этом рассказывали даже у нас.
– Удивительный поступок, гуманный поступок, – поддакнул Караколь. – Почему бы не отпустить ещё одного, ведь он везёт не мать, а всего медведя.
Эле стала утирать слёзы. Не знаю уж, по-настоящему или нам подсобить решила. Она-то и доконала Готескнехта.
– Я решаль, – сказал Готескнехт. – Я отпускай фургон, собака, медведь, этот… голубья… как?., голубьятник и девотшка. Малшик дарф нихт, не мой компетенций.
Тут Караколь надулся и выставил ногу:
– Никогда! Никогда не поедем без Кееса! Я подскочил к нему и тихо сказал:
– Всем нам не выбраться. Быстрей уезжайте! По дороге на Валкенбург есть брошенная мельница. Там ждите до утра. Если нет – значит, не выбрался. Голубей покормить не забудь.
– Ни за что! – снова сказал Караколь. – Хорош бы я был…
– Не рассуждать! – прошипел я, а кровь так и бросилась в лицо. – Приказываю… как адмирал… – Я прямо слов не находил. Хотелось дать затрещину, как Михиелькину.
– Ладно, адмирал, – грустно сказал Караколь. – Я выполню приказ…
Он подошёл к фургону, погладил Пьера и ещё раз грустно посмотрел на меня.
Они уехали. Они уехали… А я повернулся и стал смотреть на Лейден.
Может быть, кто-то глядит сейчас в подзорную трубу и видит, что я сижу один среди усатых солдат. От них пахнет потом и луком. Может, увидит меня Сметсе Смее и протрубит вылазку. Нет, вылазки запрещены.
Я почему-то вспомнил, как на улице Длинных Баранов видел нищую девочку. Был у меня в кармане кусок хлеба, но я не дал. Пожадничал. Эх, зачем я пожадничал…
Копейщикам нечего делать. Одни играют в кости, другие валяются в одних рубашках на сочной рейнландской траве. Смотрите не промочите спины, солдаты! Земля у нас – пальцем нажми, выпускает воду.
Они ходят, лениво ругаются, чешут друг другу спины. Обыкновенные люди. Неужели это они кололи, резали, отрывали головы, потрошили людей заживо, как было в Хаарлеме и Наардене? Неужели они распевали слова герцога Альбы: «Всади нож в каждое горло!»?
Уже далеко за полдень. Небо затянуло жёлтыми облаками. Поблёскивает вода. Солдаты поели бобов со свининой. Дали и мне в помятом котелке. Интересно, добрался Караколь до мельницы? Туда ведь не больше часа.
– Ошень скука, – вздыхает сержант Готескнехт. – Война некароший штук. Я был Париж. Париж я воевай против католик, за гугенот. Ви знайт гугенот? Гугенот отрывай голова католик. Католик отрывай голова гугенот. Париж я воевай против католик. Гугенот платить больше талер, дин-дин. Сейшас я воевай против гугенот. Ви есть тоже гугенот, голланд – гугенот, кальвинист. Ви понимай? Сейшас католик платить больше талер, дин-дин.
– А Париж большой город? – спросил я.
– О да! Совсем большой город. Больше Амстердам десять раз. Ошень грязь, о да, ошень. Больше Амстердам десять раз.
Я спросил:
– Зачем же воевать, если война вам не нравится?
– Затем? Сержант Готескнехт желай новый дом Гронау. Зашем… Я не любиль католик, я не любиль гугенот. Они отрывай голова друг друг. Ви слышаль ночь святой Варфоломей? Фи! Мне чуть не отрывай голова этот ночь. Католик побеждай, имей больше дукат, флорин, пистоль, талер. Сейшас я воевай за католик. Дас ист майн летцтер криг – мой последний война… Ох, – вздыхает сержант, – ошень скука… Бедный малшик. Надо играть мяшик, тук-тук, нельзя стрелять бочка порох.