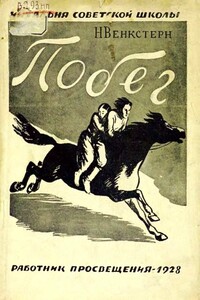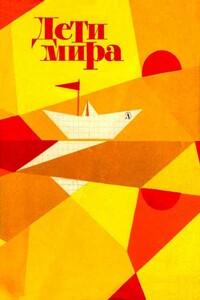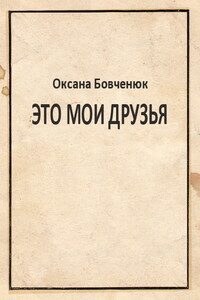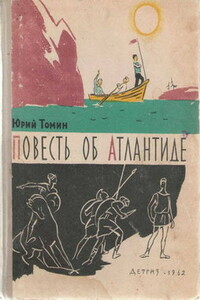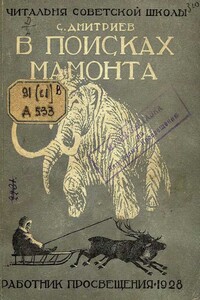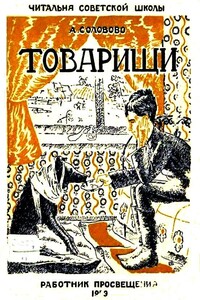— Скажи мне, батюшка, Иван Лексеевич, слово одно. Одно слово единственное: царь он али не царь?
— Э, брат, да ты опять про то же!
— Батюшка, Иван Лексеевич, только не серчай и дай мне тебе всю правду выложить.
— Что ж, выкладывай!
И Ванька, заложив руки в карманы, с усмешкой, стал ждать Евстигнеевой исповеди.
— Пришел я нонче с площади, — начал Евстигней, — вошел к себе в избу, сел на лавку и нашла на меня дума. Такая дума одолела, что и сказать нельзя. Прикидываю так: либо он и вправду царь, либо не царь он вовсе, а только народ обманывает. Коли царь он, то как возьмет Москву, как заведет своих бояр, опять у нас то же пойдет. Чиновника какого ни сажай — все одно будет чиновником. Кому землю ни раздавай, всякий, как разбогатеет, так народ душить начнет. Дума у меня такая: от всякого царя, нам, окромя горя, на своем веку ничего не видать, и людей вешать да стрелять за царя — только даром души губить. Прикидываю так: ни царь он вовсе, а народ обманывает только. Тогда, значит, рано или поздно, а правда наружу выйдет. И что ж тогда будет? Опять же выйдет, что зря народ сам себя мучил и на смертную муку шел. Думал я, думал, и голова у меня замутилась. Пойду-ка я к Иван Лексеевичу. Так я рассудил. Рассердится, велит меня казнить — его воля. Значит, так тому и быть, а мне, сам знаешь, терять нечего.
Когда Евстигней кончил, Иван долго молча глядел на него, как бы думая о чем-то своем и забыв о присутствии другого. Затем он встряхнулся; на лице его не было ни малейшей злобы.
— А ты слышал, что он говорил?
— Слышал.
— Хорошее говорил?
— Такое-то хорошее, только думаю…
— Знаю, знаю, думаешь, что он обманет, когда и впрямь в Москву придет. Так слушай, брат Евстигней, что я тебе скажу. Я тебя до сей поры вроде как за дурачка почитал, а теперь вижу, что ты, пожалуй, вовсе и не дурак выходишь. Ты ко мне со всей душевностью пришел и я тебе такой же ответ дам.
Ванька опять задумался, глядя куда-то вперед необыкновенно заблестевшими глазами.
— Во всем мы с тобой разные, — продолжал он — и в одном только сходимся: у обоих жизнь горькая, невмочь; у тебя, вишь, братьям лбы забрили, а у меня тятьку насмерть запороли, да сынишка на заводской работе захирел и помер. И, куда ни глянь, весь народ в горе своем одинаковый. Так как же, брат Евстигней, терпеть нам али не терпеть дольше?
На этот раз задумался Евстигней.
— Кабы можно было с себя скинуть… — нерешительно пробормотал он.
— Скинуть? Неволя не кафтан, не так-то просто скинуть. Пока скидывать будем, много крови прольется. Иной раз впустую. Только ты вот что помни: коли мы все свою шкуру жалеть будем да о своей жизни только и мыслить — конца этому никогда не будет.
— Я жизнь свою не жалею.
— Ты спрашиваешь, царь он или не царь? Скажу тебе до конца, брат, как я об этом полагаю. Не царь он вовсе и царем никогда не был. Только человек он смелый и народную нужду знает. Ты говоришь обман. И пущай обман — народ-то наш больно темен, привык к царскому имени и за царским именем охотней идет. А кто голову на плечах имеет, тот судит так же, как я. Не все ли равно, с кем идти, только бы ярмо скинуть непосильное, только один бы разок всей грудью вздохнуть, а там хоть и смерть.
Опять помолчали, глядя в глаза друг другу.
— Значит, он за народное дело, не за царское?
— Выходит, что так, потому и мы с ним.
Евстигней поклонился Ваньке в пояс.
— Спасибо тебе, Иван Лексеевич, развязал ты мою душу.
Евстигней собрался уходить, по Ванька остановил его за руку.
— Стой, — сказал он, теперь я тебе слово скажу. В избе у меня атаманы собрались, судят и рядят, чтобы всех покончить, кто против дела пойдет. Тебе, брат Евстигней, не больно-то доверяют. Поразмысли, с нами ты илы против нас. Как душа твоя тебе скажет? Если боишься — уходи прочь, я тебя так и быть, за твою прямоту и душевность из крепости выпущу.
Евстигней вырвал свою руку из руки Ваньки и взглянул на него неожиданно смелым взглядом.
— Ты меня, Иван Лексеевич, трусом почитаешь, — сказал он, да я по сию пору и в самом деле трусом был, потому что не знал, для чего и храбриться мне. Ну, а теперь сам увидишь. Ты мне объяснил, я понял, а кто из нас лучше умереть сумеет, то время покажет. Будет тебе нужда, приходи к Евстигнею, а хочешь, хоть сейчас казни меня за то, что темен я. Твоя воля.
Ванька, покачивая головой, с улыбкой поглядел вслед удалявшейся фигуре Евстигнея.
— Чудак человек! — проговорил он, но в душе у него затеплилось ласковое чувство к этому чудаку.
* * *
— Честь имею донести вашему превосходительству, что на реке Иргизе отряды самозванца наголову разбиты войсками ее величества. В наших руках остались пушки, запасы провианта и большое количество пленных.
Молодой офицер стоит в дверях, вытянувшись, как струна. Старый генерал, которому он докладывает, делается красным как рак от волненья и крестится на образа.
— Слава богу! Как мы порадуем этим известием нашу матушку.
И он оглядывается на стену, где в небольшой золоченой раме висит портрет Екатерины.
— Откуда эти счастливые известия, капитан?
— Только что прискакал курьер. На пятьдесят верст впереди нам путь очищен от разбойничьих шаек. Наши войска продолжают преследовать мятежников. Штурмом занят целый ряд крепостей, где теперь идут суд и расправа над злодеями.