Категории средневековой культуры [заметки]
1
Принятый порядок цитирования: первая цифра в скобках отсылает к библиографии в конце книги, следующая обозначает страницу или, в поэтических текстах, строку.
2
Профессор Ж. Дюби совершенно прав, начиная свое предисловие к французскому изданию моей книги с утверждения, что она явилась непосредственным развитием идей, изложенных в книге «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе» (М., 1970).
3
Библиография значительно обновлена, преимущественно за счет включения работ, вышедших в 70-е и в начале 80-х годов. При этом пришлось опустить ссылки на многие более ранние публикации, цитированные в первом издании.
4
«...Тенденция к созданию национальных государств, выступающая все яснее и сознательнее, является одним из важнейших рычагов прогресса в средние века» (2, т. 21, 410).
5
Обзоры и рефераты новейшей литературы (35, 45, 71).
6
Этот упрек в несравненно меньшей мере относится к историкам искусства и литературы (см. ниже).
7
Адама
8
Кстати, именно 35 лет исследователи считают тем возрастом, которого достигало в среднем большинство населения тогдашней Европы (104, 23, 172, 347—364).
9
Впрочем, подобным заявлениям не всегда можно полностью доверять Аделард Батский признавался, что распространенное отрицательное отношение к новшествам вынуждает его выдавать свои мысли за чужие и приписывать их древним или арабским мыслителям (193, 60).
10
Как и во многих иных случаях, мысль, высказанная автором эпохи средневековья или Ренессанса, на поверку оказывается пересказом или скрытой цитатой из произведения древнего автора Слова Альберти перекликаются с обращением Сенеки к Луцилию «Все у нас, Луцилий, чужое, одно лишь время наше Только время ускользающее и текучее, дала нам во владение природа, но и его кто хочет, тот и отнимает» (74, 5) Впрочем, то, что эта идея была высказана на 1400 лет ранее, едва ли делает ее менее симптоматичной для характеристики духовного климата позднего средневековья и Ренессанса (9, 76—81).
Новое отношение ко времени с предельной силой обнаружилось в конце ренессансной эпохи, в поэмах Джона Донна и у Шекспира «Время вывихнулось, — восклицает Гамлет. — О, проклятье, я был рожден для того, чтоб его вправить!»
11
Теория Геория Ф. Керна о «добром старом праве» подвергалась в 60-е и 70-е гг. критике (189, 187, 171, 258 и сл.). Критики, по-видимому, правы в той мере, в какой подчеркивают влияние римского права на законодательство раннего средневековья и показывают как существование правовых нововведений в эту эпоху, так и их обоснование теоретиками феодального общества (184, 157—188). Картина, рисуемая Керном, статична, он не ответил на вопрос о том, как старое право функционировало на практике, в меняющихся социальных условиях. Квалификация Керном средневекового права как «старого и доброго» верна преимущественно для обычного права (254, 26 и сл.). Однако, на наш взгляд, его идеи не утрачивают своего значения в плане культурно-историческом, ибо в данном аспекте существенны не конкретные вариации и многообразие реальных отношений, а принципы, лежавшие в основе доминировавших представлений о праве. Право изменялось, развивалось, вводились новые законоположения, и тем не менее в восприятии людей средневековья отличительным признаком добротности и обоснованности правовой нормы оставался прецедент, который в ту эпоху выражался в отнесении источников этой нормы к «седой старине».
12
В средневековой Исландии были распространены рассказы о «живых покойниках», которые бдительно стерегли запрятанные в курганах сокровища, — видимо сокровища эти были нужны им не меньше, чем живым.
13
«Хулительная песнь» считалась у древних скандинавов средством причинения врагу как морального, так и чисто физического ущерба.
14
Видимо, «богач», «жирный», но не исключено, что это — имя собственное.
15
См. также «Сов. востоковедение», 1958, № 5, с. 12.
16
Впрочем, некоторые отголоски древнего деления на возрастные классы можно обнаружить в специфических формах поведения неженатой молодежи, в частности в обычае шаривари (118, 124, 104 и сл.).
17
Понадобились длительные усилия, для того чтобы отучить знатных юношей от привычки плевать и сморкаться за столом чавкать и чесать свое тело той же рукой какой брали пищу из общей тарелки, класть в нее недоеденные куски или обглоданные кости и пить из общего кубка, не вытерев перед тем губ, спать во время трапезы или же слишком много разговаривать и проявлять жадность в еде.
18
Гигиена тела несомненно стояла в средние века неизмеримо ниже чем в античности или в Новое время, но бани существовали и за восклицанием Мишле «тысяча лет без бань!» не стоит никакой реальности.
19
В современной французской медиевистике переход к феодализму принято датировать концом X — началом XI века и считать результатом резких и глубоких сдвигов — отсюда выражение «феодальная революция». Эта точка зрения вызывает возражения.
20
Сам же Ле Гофф полагает, что в тройственном расчленении общества в учении Адальберона на «молящихся», «воинов» и «тружеников» можно видеть трансформированный вариант Древней «индоевропейской трехфункциональность идеологии», открытой Ж. Дюмезилем (196). Следовательно, трехфункциональность, была дана изначально, а не явилась продуктом развития мысли позднего времени.
21
Вспомним, что завершенная доктрина о «небесной иерархии» была выработана Псевдо-Дионисием Ареопагитом за несколько веков до зарождения земной феодальной иерархии. Корреляция между обеими иерархиями, которая в средние века не, могла не броситься в глаза, отнюдь не имела своей причиной развитие социально-экономических структур (6, 12—14).
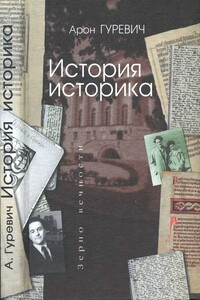
В книге обсуждаются судьбы советской исторической науки второй половины XX столетия. Автор выступает здесь в роли свидетеля и активного участника «боев за историю», приведших к уничтожению научных школ.В книге воссоздается драма идей, которая одновременно была и драмой людей. История отечественной исторической мысли еще не написана, и книга А. Я. Гуревича — чуть ли не единственное живое свидетельство этой истории.
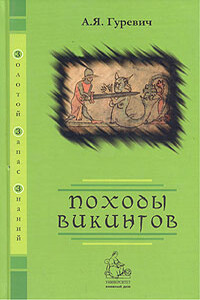
В книге рассказывается о викингах, чьи походы беспокоили Европу почти триста лет: с конца VII по XI века, став источником легенд о жестоких и кровожадных «северных людях». Автор, обращаясь к сообщениям западноевропейских хроник, сюжетам и описаниям скандинавских саг, археологическим находкам, рассматривает причины и последствия походов викингов не только для западноевропейских народов, но и для самой Скандинавии, рассказывает о торговле и раннесредневековых скандинавских городах, описывает быт и характеризует культуру скандинавов IX–XI веков.
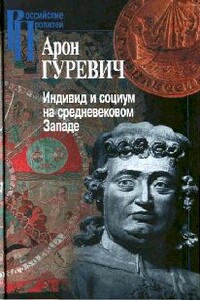
Современные исследования по исторической антропологии и истории ментальностей, как правило, оставляют вне поля своего внимания человеческого индивида. В тех же случаях, когда историки обсуждают вопрос о личности в Средние века, их подход остается элитарным и эволюционистским: их интересуют исключительно выдающиеся деятели эпохи, и они рассматривают вопрос о том, как постепенно, по мере приближения к Новому времени, развиваются личность и индивидуализм. В противоположность этим взглядам автор придерживается убеждения, что человеческая личность существовала на протяжении всего Средневековья, обладая, однако, специфическими чертами, которые глубоко отличали ее от личности эпохи Возрождения.
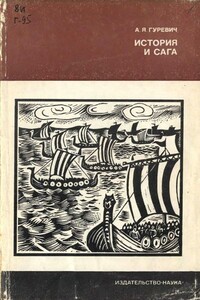
На протяжении многих столетий исландский народ играл роль хранителя культурных традиций древней Скандинавии, развивал и обогащал их. Среди произведений средневековой скандинавской литературы видное место занимает сочинение крупнейшего исландского историка Снорри Стурлусона «Хеймскрингла» («Саги о норвежских конунгах»), в которой изображена история Норвегии и других стран Северной Европы, а также содержится много сведений о соседях скандинавов, в том числе и о Руси. «Хеймскрингла» представляет большой интерес не только как исторический источник, но и как памятник скандинавской культуры, запечатлевший специфическое мировосприятие, отношение к времени, к человеческой личности, восходящие к эпохе викингов этические ценности и нормы поведения.

Книга известного советского ученого-медиевиста продолжает и развивает исследование западноевропейской средневековой культуры с необычной точки зрения: посредством анализа письменных текстов как бы восстанавливается миропонимание широких слоев народа, не имевших доступа к письменности. Автор рассматривает саги и песни, записи "видений" и нравоучительные "примеры", средневековую проповедь, церковные ритуалы и культы, различные свидетельства о драматичной "охоте на ведьм" в конце Средневековья и начале Нового времени и из этих источников черпает обширный материал для воспроизведения духовного содержания жизни средневекового простолюдина.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.