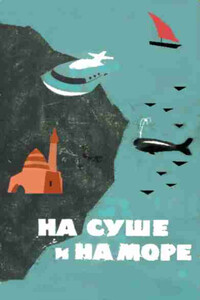Кант - [51]
Вообще говоря, категория возвышенного играет у Канта, идущего в вопросе о ее месте в эстетике вслед за английскими теоретиками XVIII в Э. Берком и Г. Хоумом, относительно самостоятельную роль: она и соотносится с категорией прекрасного и противостоит ей. Кант замечает, что уже интерес к прекрасному в природе возвышает нас в моральном отношении и даже порождает «…преимущество красоты природы перед красотой [произведений] искусства…». С другой стороны, «прекрасное готовит нас любить нечто, даже природу, без всякого интереса, возвышенное — высоко ценить нечто даже вопреки нашему (чувственному) интересу» (11, т. 5, стр. 277). Если в суждениях о прекрасном субъективная целесообразность создается через соответствие между воображением и рассудком, то в суждениях о возвышенном — через соотношение между воображением и разумом. Здесь, пожалуй, впервые у Канта разум начинает возвышаться над рассудком в положительном смысле.
Кант пишет о трех ступенях возвышенного — математической, динамической и нравственной. Первые две из них относятся к неодушевленной природе, в которой нас удивляют и поражают огромные размеры и хаос бесформенного горного массива или грозная мощь бурного водопада и т. д., причем, строго говоря, и здесь не объекты оказывают на нас возвышающее воздействие, а мы сами возвышаем наш разум над чувственной способностью представления и, в результате душевной борьбы, приводим их к созвучию. Возникающее в нас уже на этих низших ступенях возвышенного странное «негативное удовольствие» проистекает, по Канту, от того, что душа чувствует не только нашу физическую ничтожность перед могущественным ликом природы, но и превосходство над ней своего предназначения. Высшая в смысле своего нравственного величия ступень возвышенного — это возвышенность человеческого духа.
Здесь возвышенное окончательно смыкается с нравственным, и аналитика возвышенного наводит у Канта еще один мост между эстетикой и этикой. Его гуманизм находит свое выражение в настойчиво утверждаемом им тезисе, что именно в человеке, и только в нем, осуществляется связь между всеми мирами и областями бытия. На смену богу как этическому идеалу окончательно приходит человек как идеал эстетической возвышенности. В том мире, который нас окружает, выше человека нет ничего.
Но, смыкаясь с нравственным, возвышенное все более отходит от собственно прекрасного, если понимать последнее в духе тех характеристик, которые Кант приписал ему в соответствующей аналитике. В дополнение к далеко не преодоленному разрыву между природой и свободой появляется теперь разрыв между аналитиками прекрасного и возвышенного. Кроме того, разрыв возникает и внутри теории прекрасного, что видно из сопоставления учения о признаках чистых эстетических суждений с рассуждением об идеях и идеале в искусстве: первое — формально, второе — содержательно.
Противоречивой оказалась у Канта его теория художественного творчества. Ее обычно понимали в аристократически-элитарном смысле, почему она и оказала большое воздействие на Шеллинга и иенских немецких романтиков во главе с Ф. Шлегелем. Они понимали эту теорию как обоснование противоположности духа «гения» толпе и обывательской обыденности. Действительный смысл этой теории не совсем таков, а в недоразумении отчасти виновато своеобразие применяемой Кантом терминологии. Говоря о «гении», он имеет в виду не непременно высший, а только особый тип человека, специфический вид одаренности, «талант (природное дарование)», который может быть у многих. Еще Баумгартен писал нечто подобное. Кант не противопоставляет «гения» остальным людям, а лишь отличает его от них, так как свойственное ему художественное творчество в принципе носит иной характер, чем деятельность теоретического сознания ученого. Создание не ремесленных поделок, а подлинно оригинальных и даже уникальных произведений искусства требует особых склонностей, которых нет у естествоиспытателя, тогда как у последнего есть способности, которых нет у художника-творца.
Но Кант говорит и другое. Творчество гения не доступно рациональному объяснению, он не следует правилам природы, но сам создает правила, которые становятся эстетическими нормами. Прочим художникам остается подражать не природе, а образцам, которые дал «гений». Он возвышается над всеми людьми, ибо его деятельность, следуя «закономерности без закона», настолько уникальна, что, строго говоря, ей невозможно подражать. Творение «гения» — это пример «не для подражания», а только для вспышки иной оригинальности у иного «гения».
И еще один мотив связан у Канта с его общим стремлением использовать понятия своего учения об искусстве для создания средостений между природой и свободой. В «гении» пересекаются свобода и необходимость, трансцендентный разум и естественный по применению и трансцендентальный по происхождению рассудок. Отсюда рассуждения Канта о том, что, поскольку гениальность прирожденна, она связана с природной необходимостью, а поскольку выражается в неповторимом творчестве — свободна. Правила самодеятельности «гения» идут не от природы, но продукт их применения должен казаться одновременно и природным, и свободным. Первое — потому, что произведение искусства

В книге дается краткий очерк жизни и анализ воззрений видного английского философа XVIII в. Д. Юма.Автор критикует его субъективно-идеалистическую и агностическую концепцию и вместе с тем показывает значение юмовской постановки вопроса о содержании категории причинности, заслугу философа в критике религии и церкви.
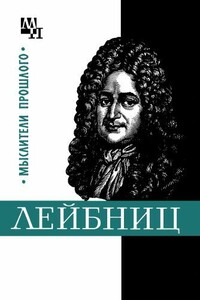
В книге дается анализ метода и философской системы Лейбница, мыслителя, предвосхитившего многие философские и научные идеи XIX–XX вв. Автор разбирает основные произведения Лейбница, излагает его учение о бытии, теорию познания, этику.Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей философии, а также историей науки.

Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.