Камень на камень - [10]
А еще у меня под стрехой ласточки. Выведутся птенцы, так уже спозаранку голодные, подымают писк. А вместе с ними и я просыпаюсь. Все меньше в нашей деревне этих птах с того времени, как люди стали солому с крыш сдирать. Не так-то легко ласточке снова прижиться, если крышу сменить. И не всякая крыша ей мила. Толь, к примеру, они не терпят, железо тоже. От железа, когда зной, жар идет и у них гнезда склеиваются, толь, опять же, смердит. Скорее аист привыкнет к новой крыше, ему лишь бы старое колесо от телеги положили или прутиков сплели. Голубей тоже можно обратно приманить, им только гороху подсыпь. О воробьях я не говорю, эти не разбирают, какая крыша, было б чего пожрать. А ласточка, даже если много лет с людьми под одной крышей живет, — вечный страх. Страх божий, человечий, осиновый лист. И без конца мечется. Без конца в полете. То она здесь, то там. Ниже, выше. Только что над землей была, и уже в поднебесье. Словно постоянно от чего-то убегает. А от чего? Иной раз глядишь, как она летает, — чисто соринка, от которой на око небесное навернулась слеза. А то вдруг покажется, тесен ей белый свет и бьется она, как в клетке, захлопнутая между небом и землей. Точно разума от этого круженья лишилась. Вечно гоняется кто-то за ней. И кто? Даже когда низехонько летит промежду хат, такие острые чертит углы — как по глазам тебя режет, словно хочет, чтоб ты даже след ее не углядел. Если б не то, что наполовину черная, можно бы подумать, солнце искрится. Только высоко, под самым небом, мало-мальски успокаивается. Хотя куда ей до степенства аиста или голубя. На дворе жара, дремотно, даже собакам неохота рычать, лежат, отупелые, в конурах. Даже куры перебираются в тень и прячут голову под крыло. Листочек на дереве не шелохнется. Мухам кусаться лень. Одни только ласточки трепещут высоко в воздухе или носятся над самой землей. Диву даешься: и охота им, и зачем? А на другой день — быть или не быть грозе. Ласточки, они не знают покоя.
Одно-два гнезда, может, у кого и сыщутся, а под моей стрехой их небось целый десяток. И так я со своими ласточками сжился, что даже в больнице они вместе со мной просыпались. Вначале словно капля росы капала во что-то мягкое. Это просыпался первый оголодавший птенец. Я открывал глаза, смотрел в окно. Рассвет за оконным стеклом похож на пустое цинковое ведро. И сразу же за той каплей вторая, но уже будто в это ведро, поголоднее. За ней третья, четвертая, десятая, и каждая голодней прежней. И так помаленьку начинало светать. Сперва точно кто-то размыл синеву этого ведра. А погодя кто-то другой принес в том ведре молоко от утреннего удоя и поставил посреди палаты. Тотчас кровати начинали скрипеть. Кто-то что-то сказал. Кто-то господу вздох послал. Кто-то, без руки или без ноги, на другой бок перевернулся, и с ним перевернулась вся палата. И уж больше не удавалось заснуть.
Может, в такую рассветную пору я и подумал об этом склепе — что, если построить, будет всем где лежать. Мысли-то после сна тоже оголодавшие, словно ласточки на заре. В больнице приходят мысли, какие хочешь и каких не хочешь. И даже такие, которые к здоровому никогда б не пришли. Потому что у здорового мысли только об этом свете. А начнешь о том свете думать, скользят, как по стеклу. Потому что туда надо душой и телом вместе с мыслями отправляться. И навечно.
Да и не диво, лежишь прикованный к постели, времени как мух на навозной куче, не знаешь, куда его девать. Спать не хочется, да и сколько можно. Говорить тоже больше не о чем, надоело все об одном. Вот и тянется час как день, день как месяц, месяц как год. Столько времени, пожалуй, и на том свете не будет. А такое пустое время хуже, чем хворь. К тому же в палате двенадцать коек. И на каждой если не нога отрезана, так раздроблена рука, кого-то трактор придавил, у кого-то крестец сломан или трубка на месте кадыка и воздух свистит, тут полжелудка вырезано, там забинтована вся башка, а здесь даже не поймешь что. И все это вздыхает, хрипит, кряхтит и помирает каждый день. И еще без конца рассказывает, рассказывает, рассказывает о своих болячках и обо всем. И некуда от этого убежать. Так что убегаешь в свои мысли, хотя с ними не лучше.
Я за всю жизнь столько не передумал, сколько за эти два года в больнице. Когда выписался, показалось, голова у меня вдвое тяжелей. И будто улей в ней без умолку жужжит. Но не думать не получалось. Даже если не хотелось, мысли сами за тебя думали. Выгонишь их из головы, так они над головой кружат словно воронья стая, спугнутая с тополей. Каркают, верещат. И никакими силами от них не избавиться, хоть это и твои мысли.
Если бы мне кто раньше сказал, что на мою долю выпадет строить склеп, я б того человека обсмеял. Я — и склеп. И не младший я в семье, и не старший. И хозяиновать не собирался. Земля меня не тянула. Делал, что отец велел, но мыслями всегда был где-нибудь в другом месте.
Из нас, четверых братьев, больше всего бы это Сташеку подошло — он с малых лет обещал стать хорошим хозяином. Отец и тот, бывало, размечтается, что Сташек, когда вырастет, поставит новый дом. Даже пререкались они со Сташеком, потому что Сташек хотел Каменный, с подвалами, с верандой, с широкими окнами, крытый железом и обязательно везде деревянные полы. А отец — чтоб хотя бы в кухне оставить глинобитный пол, как по деревянному в грязных сапогах ходить, когда придет осень? Да и сплюнуть иной раз надобно, окурок затоптать. Еще Сташек хотел, чтобы были три комнаты. Две внизу, особо для него с женой, когда он женится, особо отцу с матерью. Третья в мансарде — если который-нибудь из нас, братьев, приедет их навестить, тоже чтоб свою имел. Кроме того, чулан, кладовка. И в каждое помещение отдельный вход, из сеней. Отец упрашивал Сташека, чтоб хотя бы они с матерью могли к себе через кухню ходить. Всю жизнь так ходили, трудно будет по-другому привыкать. Но Сташек не соглашался, нет и нет, только из сеней, он видел — и в плебании

Сборник включает повести трех современных польских писателей: В. Маха «Жизнь большая и малая», В. Мысливского «Голый сад» и Е. Вавжака «Линия». Разные по тематике, все эти повести рассказывают о жизни Польши в послевоенные десятилетия. Читатель познакомится с жизнью польской деревни, жизнью партийных работников.
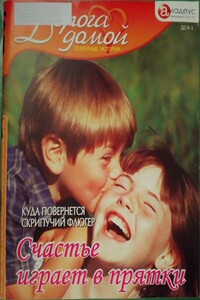
Для 14-летней Марины, растущей без матери, ее друзья — это часть семьи, часть жизни. Без них и праздник не в радость, а с ними — и любые неприятности не так уж неприятны, а больше похожи на приключения. Они неразлучны, и в школе, и после уроков. И вот у Марины появляется новый знакомый — или это первая любовь? Но компания его решительно отвергает: лучшая подруга ревнует, мальчишки обижаются — как же быть? И что скажет папа?
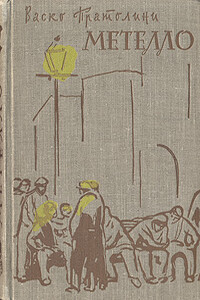
Без аннотации В историческом романе Васко Пратолини (1913–1991) «Метелло» показано развитие и становление сознания итальянского рабочего класса. В центре романа — молодой рабочий паренек Метелло Салани. Рассказ о годах его юности и составляет сюжетную основу книги. Характер формируется в трудной борьбе, и юноша проявляет качества, позволившие ему стать рабочим вожаком, — природный ум, великодушие, сознание целей, во имя которых он борется. Образ Метелло символичен — он олицетворяет формирование самосознания итальянских рабочих в начале XX века.

В романе передаётся «магия» родного писателю Прекмурья с его прекрасной и могучей природой, древними преданиями и силами, не доступными пониманию современного человека, мучающегося от собственной неудовлетворенности и отсутствия прочных ориентиров.
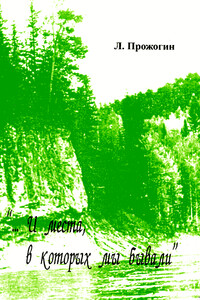
Книга воспоминаний геолога Л. Г. Прожогина рассказывает о полной романтики и приключений работе геологов-поисковиков в сибирской тайге.

Впервые на русском – последний роман всемирно знаменитого «исследователя психологии души, певца человеческого отчуждения» («Вечерняя Москва»), «высшее достижение всей жизни и творчества японского мастера» («Бостон глоуб»). Однажды утром рассказчик обнаруживает, что его ноги покрылись ростками дайкона (японский белый редис). Доктор посылает его лечиться на курорт Долина ада, славящийся горячими серными источниками, и наш герой отправляется в путь на самобеглой больничной койке, словно выкатившейся с конверта пинк-флойдовского альбома «A Momentary Lapse of Reason»…
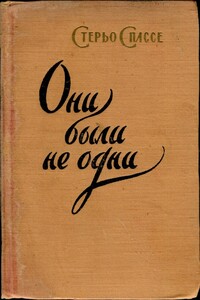
Без аннотации.В романе «Они были не одни» разоблачается антинародная политика помещиков в 30-е гг., показано пробуждение революционного сознания албанского крестьянства под влиянием коммунистической партии. В этом произведении заметно влияние Л. Н. Толстого, М. Горького.