Камень на камень - [8]
Я еще более-менее держался, почешусь, и на время полегчает. А он городской, верно, знать не знал, что такое вши. Как начал корябаться, только шу-шу, шу-шу слыхать, будто кто-то поблизости остругивает гроб.
— Прекрати, — прошу, потому что чувствую: на мне его шкура саднит. Где там — шу-шу, шу-шу.
— Перестань, черт тебя побери, слышь?
В тот же еще день, ближе к вечеру, пришел старичок, который нам велел на кладбище бежать. Как он нас отыскал, как узнал, в котором мы склепе сидим, ума не приложу. Сперва мы услышали, по своду легонько стук-стук. У нас сердца в пятки, я того малого за руки схватил, чтоб не вздумал чесаться. И тут вдруг как грохнет два раза кряду, бум, бум, точно не в склепе мы, а в барабане.
— Эй, отзовитеся! Знаю, что вы тут! Это я.
Я чуть-чуть отодвинул плиту, глянул, а это тот самый дед. Стоит на коленях, руки сложил, будто молится.
— Пришлось из-за вас перед могилой мазуриков этих, Северских, на колени стать, а у них весь род разбойный, вор на воре. Телку у меня тот, что здесь с вами лежит, увел. Туды его растуды. Нате-ка. Сивухи вам принес и хлеба с салом. Подкрепитесь.
— Благодарствуйте, — говорю. — А что в деревне?
— Ой, беда. Вешать будут. Согнали всех мужиков к пожарному сараю и отсчитали десятерых, что не сдали скот. Плотникам приказано виселицу ставить. Уедут, я вам знак подам.
Самогон был крепкий, не разбавленный. Для начала отхлебнули по глоточку. Шмель не хотел, непьющий, мол, но я его заставил. Потом еще по глотку. Чтоб согреться и вшей поменьше чувствовать. Кровь нужно допьяна Напоить, чтоб ни капельки трезвой не осталось. А от двух глотков, если б удалось измерить, самое большее палец может захмелеть. Стало быть, еще по глотку. А жратву под это дело жалко было переводить, кто знает, придет еще дед или нет? Вот мы и цедили без закуски, под покойничков, на пустой желудок. Шмель отказывался, невмоготу ему, больно бураками, понимаешь ли, разит.
— Пей, — говорил я. — Видишь, вши тебя не едят. А на трезвую голову весь бы исчесался.
Ну и пили, он глоток, я глоток, и так по очереди до конца, до дна. Никто нас не кусал, и склеп вскоре сделался вроде бы просторней. Даже казалось, встать можно, потянуться. Кончилось тем, что мы заснули.
Но когда проснулись, о, тут нам вши задали жару. Шмель как пошел чесаться, я думал, терпенья моего не хватит. Дал ему хлеба с салом, так он одной рукой ел, а другой чесался. И еще скулил, не осталось ли хоть капли сивухи. Не осталось. Сам бы выпил. И у меня кожа зудела, чтоб ее черт, но, видно, все же не так, как у него. Жаль мне сделалось парня, выдернул я из штанов ремень:
— Давай, руки свяжу.
Стал он меня упрашивать, не надо, не связывай, еще хуже будет. И верно, думаю.
— Тогда угомонись, язви тебя в душу!
— Не могу.
— Поколупай подсолнух.
— Подсолнух? А откуда его взять?
— Не спрашивай откуда, колупай.
— Я бы рад, да как же без подсолнуха-то?
— Обыкновенно. Здесь все равно темно, ничего не видать. Представь, что он у тебя на коленях лежит, а ты выковыриваешь семечки да в рот — только треск слыхать. Неужто не помнишь, ты ж его в начале деревни возле одной хаты сорвал? Беленая была хата, в голубизну, горшки на изгороди сохли, кошка у стены грелась, куры копошились в пыли. Ты забежал в палисадник, нацелился сорвать подсолнух, а он не дается. Тут из хаты вышла девушка и говорит: я тебе принесу нож. И принесла, большой такой. Режь, сказала. А то, хочешь, все срезай. И улыбается тебе, улыбается. Или вон тот, у него семечки покрупней. Ну как? Только шелухой в меня не плюйся.
— А он созрел, ты пробовал?
— Отчего ему не созреть? Осень, самая пора.
— Поколупаешь, может, со мной?
— Меня так вши не едят.
Ну и стал он колупать. Иногда только почесывался, а так колупал. Слышно было, как семечки потрескивают на зубах, и шелуху он то и дело сплевывал. Вдруг он перестал щелкать и спрашивает:
— Говоришь, в начале деревни, возле голубоватой хаты, они росли?
— Грызи, — говорю. — Чего перестал?
— Пойду погляжу, может, там еще есть. — И ладится лезть наружу.
— Ты куда? Хорошо тебе, и сиди.
— Принесу, и ты погрызешь.
— Сдурел? Там немцы.
— Ну и что? Говорил ведь дед, отсчитали тех, кого на виселицу. Может, уже и повесили.
— Убьют тебя, — пытался я его остановить. — Не было там подсолнухов. Я тебя обманул. Это в другой деревне.
— Не обманул. Я помню. И девушку помню. Нож мне вынесла, хотела, чтобы я тот срезал, у которого семечки покрупней. Я и срезал, да кончились семечки.
Похоронил я его на этом же кладбище, прямо в земле, без гроба, без обряда. Насыпал холмик, сделал крест, перенес венок со склепа Северских, в котором мы сидели, — раз они мазурики, то и не заслужили венка, — и сыграл ему на губной гармонике, потому что всегда при себе губную гармонику носил. Ох, глупый ты, Шмель. Грыз семечки, и дальше надо бы грызть.
Мы своих почти всегда так хоронили — там, где их смерть нашла. Без гроба, прямо в земле. А на крест срубали березку, даже кору не обдирали, только чтоб веток не было, потом пополам и накрест проволокой или ремнем, вот тебе и крест. И никакого следа не оставалось, ни имени, ни фамилии. Лежал человек и не знал, кто он. И те, что возле него останавливались, не знали. Может, даже господь бог не знал. Хотя каждый как-то назывался. Гженда, Сова, Смардз, Краковяк, Малиновский, Буда, Грушка, Микус, Нецалек, Барчик, Тамтырында, Вжосек, Май, Шумигай, Ямроз, Кудла, Врубель, Карпель, Гуз, Муха, Важоха, Червонка, Бонк, Зыга, Козея, Донда, Заенц, Лис, Галенза, Колодзей, Ян, Юзеф, Енджей, Якуб, Миколай, Мартин, Матеуш. Целые святцы. А всем пришлось от себя отказаться, и гниют теперь как падаль.

Сборник включает повести трех современных польских писателей: В. Маха «Жизнь большая и малая», В. Мысливского «Голый сад» и Е. Вавжака «Линия». Разные по тематике, все эти повести рассказывают о жизни Польши в послевоенные десятилетия. Читатель познакомится с жизнью польской деревни, жизнью партийных работников.

В романе передаётся «магия» родного писателю Прекмурья с его прекрасной и могучей природой, древними преданиями и силами, не доступными пониманию современного человека, мучающегося от собственной неудовлетворенности и отсутствия прочных ориентиров.
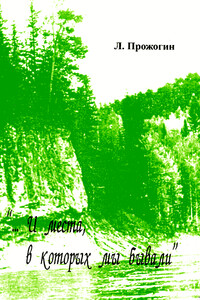
Книга воспоминаний геолога Л. Г. Прожогина рассказывает о полной романтики и приключений работе геологов-поисковиков в сибирской тайге.

Впервые на русском – последний роман всемирно знаменитого «исследователя психологии души, певца человеческого отчуждения» («Вечерняя Москва»), «высшее достижение всей жизни и творчества японского мастера» («Бостон глоуб»). Однажды утром рассказчик обнаруживает, что его ноги покрылись ростками дайкона (японский белый редис). Доктор посылает его лечиться на курорт Долина ада, славящийся горячими серными источниками, и наш герой отправляется в путь на самобеглой больничной койке, словно выкатившейся с конверта пинк-флойдовского альбома «A Momentary Lapse of Reason»…
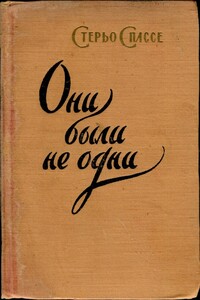
Без аннотации.В романе «Они были не одни» разоблачается антинародная политика помещиков в 30-е гг., показано пробуждение революционного сознания албанского крестьянства под влиянием коммунистической партии. В этом произведении заметно влияние Л. Н. Толстого, М. Горького.

Немецкий офицер, хладнокровный дознаватель Гестапо, манипулирующий людьми и умело дрессирующий овчарок, к моменту поражения Германии в войне решает скрыться от преследования под чужим именем и под чужой историей. Чтобы ничем себя не выдать, загоняет свой прежний опыт в самые дальние уголки памяти. И когда его душа после смерти была подвергнута переформатированию наподобие жёсткого диска – для повторного использования, – уцелевшая память досталась новому эмбриону.Эта душа, полная нечеловеческого знания о мире и людях, оказывается в заточении – сперва в утробе новой матери, потом в теле беспомощного младенца, и так до двенадцатилетнего возраста, когда Ионас (тот самый библейский Иона из чрева кита) убегает со своей овчаркой из родительского дома на поиск той стёртой послевоенной истории, той тайной биографии простого Андерсена, который оказался далеко не прост.Шарль Левински (род.

«Отныне Гернси увековечен в монументальном портрете, который, безусловно, станет классическим памятником острова». Слова эти принадлежат известному английскому прозаику Джону Фаулсу и взяты из его предисловия к книге Д. Эдвардса «Эбинизер Лe Паж», первому и единственному роману, написанному гернсийцем об острове Гернси. Среди всех островов, расположенных в проливе Ла-Манш, Гернси — второй по величине. Книга о Гернси была издана в 1981 году, спустя пять лет после смерти её автора Джералда Эдвардса, который родился и вырос на острове.Годы детства и юности послужили для Д.