Каллиграфия страсти - [4]
Помню далекий вечер, нашу вторую встречу в 1966 году в Женеве. У меня был концерт: только Моцарт и Брамс. Он явился и был смущен, так как ждал камерной программы из Шопена и Дебюсси, но никак не Моцарта. Он сказал, что я играл Рондо ля-минор в манере необычной, более того — таинственной. Потом, сам не знаю как, заговорили о Прелюдиях Шопена. Он спросил, почему я их еще не записал и почему они так мало фигурируют в моих концертных программах: «Пианист Вашей глубины мог бы много сказать этой музыкой. Мне кажется, что Прелюдии — наиболее возвышенные и драматичные из произведений Шопена. Их бы надо играть все, одну за другой, без перерыва. Возможно, я не прав, но по Прелюдиям можно многое сказать о личности пианиста». Я ответил, что предпочитаю Баллады. Он посмотрел на меня пристально и сочувственно, а потом, пригубив бокал с минеральной водой, озадачил меня: «Вы предпочитаете Баллады, а я люблю некоторые Ноктюрны. И знаете, какой больше всех? Может, для Вас это неожиданно, но ор. 37, соль-минор. Но не скажу Вам, почему: хочу, чтобы Вы догадались сами, послушав его». И сразу же прибавил: «Думаю, Ваша любимая Баллада — Четвертая, фа-минор. И скажу, почему: пока что она у Вас получается хуже, чем остальные». Я ошеломленно посмотрел на него; возможно, это был первый и последний раз, когда меня привели в смятение слова пианиста. Я считал свой пианизм совершенно другим: мои ноты были как шарики, стальные шарики, которые ударяли в грудь. Возможно, я ошибался. Теперь-то я все понимаю, потому что передо мной лежит рукопись с загнувшимися краями, пропыленная и выцветшая, как и положено всякой старинной бумаге.
Имея дело с Шопеном, нужно обладать терпением: бывает, что сходят с ума, или, как я, делают вид. Ибо в этом мире, за пять лет до второго тысячелетия, пианисты либо безумны, либо нет, и я не могу сообщить миру, что я не безумен. По крайней мере настолько, чтобы сохранить в тайне то, что лежит сейчас передо мной — две странички, существование которых никто не мог себе представить. Мне приходит на ум тот день, когда я в последний раз играл Четвертую Балладу на концерте. Это было в Зальцбурге, в 1975 году. Концерт транслировался по радио, зал был полон, как всегда; у меня болело горло, и я чувствовал себя усталым. Я до деталей продумал программу: Лист, Дебюсси, Моцарт, Токката Баха. В конце выступления — Шопен, я должен был сыграть его на «бис» и закрыть концерт. А я вдруг начал с него, будто испугавшись, что не сыграю в конце. Вначале моя музыка была похожа на навязчивое блуждание по кругу. Я играл на Безендорфере «империале», инструменте, не обладающем мягкостью роялей Стейнвея. Великолепный для Моцарта и Баха, возбуждающий для Листа, но противопоказанный для Дебюсси и, естественно, для Фридерика Шопена, это был инструмент, который заставлял ощутить сталь своих трехметровых струн. Уже с первых тактов я почувствовал, что что-то не так, в чем-то я ошибаюсь. Это понял только я сам, никто в публике не мог представить, что до-мажорное начало несет в себе чувство потери или, скорее, несовпадения. Я слышал, как звук возникает по всей длине струны и уходит в зал, и понимал, что выбора нет, что я должен играть очень точно, но я не знал, что мне с этой точностью делать. Я помню, Исаак Стерн, который играл на скрипке так, будто это был инструмент, изобретенный романтиками, и мог даже пустыню Негев заставить вибрировать под своими пальцами, помог мне понять, насколько различны искусство владения смычком и укрощения струн пальцами, кистями и предплечьями. Мы, пианисты, отстранены от звука, у нас нет вибрирующих дек и струн, оставляющих следы на подушечках пальцев, а есть рычаги и жесткие клавиши, приятные на ощупь, часто из слоновой кости. Лишенные интимного контакта с инструментом, мы отделены от музыки, и каждое «соль», «до», «ре» или «фа-диез» имеет одно и то же звучание — более мощное, более легкое, усиленное правой педалью или приглушенное левой — но его тембр будет одинаков.

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Молодой, но уже широко известный у себя на родине и за рубежом писатель, биолог по образованию, ставит в своих произведениях проблемы взаимоотношений человека с окружающим его миром природы и людей, рассказывает о судьбах научной интеллигенции в Нидерландах.

Роман представляет собой исповедь женщины из народа, прожившей нелегкую, полную драматизма жизнь. Петрия, героиня романа, находит в себе силы противостоять злу, она идет к людям с добром и душевной щедростью. Вот почему ее непритязательные рассказы звучат как легенды, сплетаются в прекрасный «венок».

1946, Манхэттен. Грейс Хили пережила Вторую мировую войну, потеряв любимого человека. Она надеялась, что тень прошлого больше никогда ее не потревожит. Однако все меняется, когда по пути на работу девушка находит спрятанный под скамейкой чемодан. Не в силах противостоять своему любопытству, она обнаруживает дюжину фотографий, на которых запечатлены молодые девушки. Кто они и почему оказались вместе? Вскоре Грейс знакомится с хозяйкой чемодана и узнает о двенадцати женщинах, которых отправили в оккупированную Европу в качестве курьеров и радисток для оказания помощи Сопротивлению.
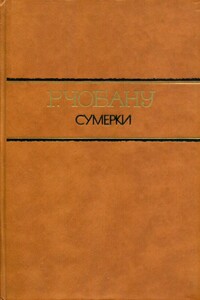
Роман «Сумерки» современного румынского писателя Раду Чобану повествует о сложном периоде жизни румынского общества во время второй мировой войны и становлении нового общественного строя.

Андрей Виноградов – признанный мастер тонкой психологической прозы. Известный журналист, создатель Фонда эффективной политики, политтехнолог, переводчик, он был председателем правления РИА «Новости», директором издательства журнала «Огонек», участвовал в становлении «Видео Интернешнл». Этот роман – череда рассказов, рождающихся будто матрешки, один из другого. Забавные, откровенно смешные, фантастические, печальные истории сплетаются в причудливый неповторимо-увлекательный узор. События эти близки каждому, потому что они – эхо нашей обыденной, но такой непредсказуемой фантастической жизни… Содержит нецензурную брань!

Эзра Фолкнер верит, что каждого ожидает своя трагедия. И жизнь, какой бы заурядной она ни была, с того момента станет уникальной. Его собственная трагедия грянула, когда парню исполнилось семнадцать. Он был популярен в школе, успешен во всем и прекрасно играл в теннис. Но, возвращаясь с вечеринки, Эзра попал в автомобильную аварию. И все изменилось: его бросила любимая девушка, исчезли друзья, закончилась спортивная карьера. Похоже, что теория не работает – будущее не сулит ничего экстраординарного. А может, нечто необычное уже случилось, когда в класс вошла новенькая? С первого взгляда на нее стало ясно, что эта девушка заставит Эзру посмотреть на жизнь иначе.