Избранные труды по русской литературе и филологии - [265]
Что касается конкретного содержания намечавшейся («система-то недостроена» – в письме 19 мая 1935 г.) концепции, из писем в той или иной степени явствует несколько положений. Если Надсон был принят за «нуль», то первой содержательной «единицей» в схеме оказывался Коневской (см. цитированное выше письмо от 15 апреля 1935 г. и письмо от 4 апреля, где говорится о «моей концепции с Коневским и Гумилевым»); именами Коневского и Гумилева обозначены две хронологически крайние в данном построении литературные величины. Письмо от 19 мая 1935 г. подтверждает, что связь между ними мыслилась как стержневая. Исследовательская установка этих наметок – несомненно, формалистская. Понятно, что в плане той же концепции и той же установки должен был изучаться и Мандельштам.
Говоря о Сумарокове (в письме 8 апреля 1935 г.), Рудаков, естественно, упоминает Г. А. Гуковского, книга которого «Русская поэзия XVIII века» (1924) написана целиком в духе формальной школы; напомним также, что борьба Сумарокова с Ломоносовым освещена сходным образом в этой книге и в статье Тынянова «Ода как ораторский жанр». Сопоставление же литературных явлений современности и XVIII века, в частности Маяковского с Державиным, характерно для ОПОЯЗа. Тынянов писал о футуризме в «Промежутке» (статье, полностью посвященной современной поэзии): «Он в своей жестокой борьбе, в своих завоеваниях сродни XVIII веку, подает ему руку через голову XIX века»[1312]. Подобный же ход мысли у Рудакова; и хотя его интересует прежде всего Гумилев, а не футуризм (у Тынянова соотношение обратное), он варьирует сопоставление, предложенное в «Промежутке»: «Молчаливая борьба Хлебникова и Гумилева напоминает борьбу Ломоносова и Сумарокова»[1313]. В другом случае (9 ноября 1935 г.), когда речь идет «о разборе в „Архаистах и новаторах“», имеются в виду наблюдения над стихотворением «За то, что я руки твои…» в 10‐м разделе «Промежутка», посвященном Мандельштаму[1314].
Из этих соображений понятно, что подразумевает автор под «истинной историей литературы» (письмо от 13 апреля 1935 г.): теоретически обоснованную в духе формальной школы и главным образом Тынянова схему литературной эволюции – эволюции поэзии. Замысел должен был бы реализоваться в работе типа упомянутой книги Гуковского или статьи Тынянова «Пушкин», написанной для энциклопедического словаря Гранат (в «Архаисты и новаторы» был включен ее более полный текст) – ср. реплику Мандельштама по поводу мыслей собеседника: «Что это, карманная история литературы?» (8 апреля 1935 г.). Работа, по всей вероятности, включала бы элементы литературно-критические, и в этом плане естественный образец – «Промежуток».
Реакция поэта отнюдь не исчерпывалась иронией. На своего рода вызов, который представляли для него рассуждения Рудакова, Мандельштам намеревался ответить статьей о формализме (письма 17 и 18 апреля 1935 г.). Сообщение Рудакова об этом чрезвычайно интересно и – на воронежском фоне – достаточно неожиданно. Не столь неожиданным предстает намерение поэта в более глубокой биографической перспективе и в связи с его статьями начала 20‐х гг., а также «Разговором о Данте»[1315]. Можно специально указать на самоуничижительную фразу о «готовых вещах» (31 мая 1935 г.): она перекликается с «Разговором», но само это обозначение для текстов, порожденных литературной инерцией и потому оцениваемых негативно, – чисто опоязовское и, в частности, неоднократно применено в «Промежутке»[1316]. В ряде случаев, когда обнаруживаются соответствия между эстетическими и критическими высказываниями Мандельштама – и положениями формалистов, можно говорить о воздействии последних (бесспорно, усиленном личным общением поэта со Шкловским в Доме искусств зимой 1920–1921 гг.), в других – напротив, о предвосхищении поэтом идей современной ему филологии. Необходимо помнить о тесной связи филологии начала века с литературной, прежде всего стихотворной, практикой и кружковым бытом различных литературных групп, а с другой стороны – о филологизме поэтов.
Если Ахматова и Пастернак заинтересованно следили за работами формалистов (в отличие от Цветаевой, им не сочувствовавшей), то Мандельштам тяготел к ним в наибольшей степени и печатно выразил свою солидарность с молодой «русской наукой о поэзии» (в статье «Литературная Москва»), а еще ранее в остром полемическом контексте выделил из всей посмертной литературы о Блоке работы Б. М. Эйхенбаума и В. М. Жирмунского[1317] – шаг весьма значимый и литературно ответственный. Насколько известно, тяготение Мандельштама к молодой филологии не вызвало какой-либо специальной реакции формалистов; ему тоже не было надобности «регистрировать» свои совпадения с ними и как-то искать сближения; наконец, ряд соответствий и схождений не был осознан обеими сторонами и заметен лишь с определенной хронологической дистанции. Но в плане истории взаимодействия литературы и филологии правомерно утверждать, что встреча поэта и науки о поэзии произошла.
Именно ситуацию такого контакта воспроизвел Рудаков. Будучи и стихотворцем, и филологом, он сам ее некоторым образом репрезентировал – и вовлек в нее Мандельштама. Абстрактность, жесткая концептуальная схема, понятийный аппарат и терминология («система») вызывают сопротивление, но, по-видимому, в диалоге актуализуются выявившиеся в свое время точки соприкосновения с формальной школой, что позволяет поэту «признать» потенциал идей собеседника, а с другой стороны, побуждает выработать собственный взгляд на источник этих идей. Судя по письму от 17 апреля 1935 г., Мандельштам прекрасно понимает, что имеет дело с учеником, которому еще предстоит доказать свою самостоятельность.

На протяжении всей своей истории люди не только создавали книги, но и уничтожали их. Полная история уничтожения письменных знаний от Античности до наших дней – в глубоком исследовании британского литературоведа и библиотекаря Ричарда Овендена.

Обновленное и дополненное издание бестселлера, написанного авторитетным профессором Мичиганского университета, – живое и увлекательное введение в мир литературы с его символикой, темами и контекстами – дает ключ к более глубокому пониманию художественных произведений и позволяет сделать повседневное чтение более полезным и приятным. «Одно из центральных положений моей книги состоит в том, что существует некая всеобщая система образности, что сила образов и символов заключается в повторениях и переосмыслениях.
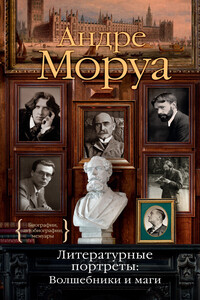
Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку о ком-либо из коллег по цеху, не было случайным.

Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку, посвященному тому или иному коллеге по цеху, – не было случайным.
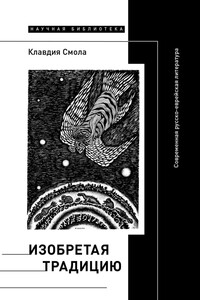
Как литература обращается с еврейской традицией после долгого периода ассимиляции, Холокоста и официального (полу)запрета на еврейство при коммунизме? Процесс «переизобретения традиции» начинается в среде позднесоветского еврейского андерграунда 1960–1970‐х годов и продолжается, как показывает проза 2000–2010‐х, до настоящего момента. Он объясняется тем фактом, что еврейская литература создается для читателя «постгуманной» эпохи, когда знание о еврействе и иудаизме передается и принимается уже не от живых носителей традиции, но из книг, картин, фильмов, музеев и популярной культуры.

Что такое литература русской диаспоры, какой уникальный опыт запечатлен в текстах писателей разных волн эмиграции, и правомерно ли вообще говорить о диаспоре в век интернет-коммуникации? Авторы работ, собранных в этой книге, предлагают взгляд на диаспору как на особую культурную среду, конкурирующую с метрополией. Писатели русского рассеяния сознательно или неосознанно бросают вызов литературному канону и ключевым нарративам культуры XX века, обращаясь к маргинальным или табуированным в русской традиции темам.