Избранные труды по русской литературе и филологии - [266]
Специфика положения, в свете которой диалог приобретает несколько фантастический или во всяком случае платонический оттенок, заключалась в том, что учителя уже давно были лишены возможности применять и развивать свою методологию и не существовало сколько-нибудь реальной надежды на то, что ученик такую возможность получит[1318]. Правда, он оперировал категорией реализма (12 февраля 1936 г.), положенной в основу официальной эстетики; он также не стал бы эксплицировать методологические посылки и навыки, мог бы отказаться от терминологии и т. п.[1319] Так или иначе, Рудаков сохранял оптимизм вплоть до кампании, начавшейся статьей «Правды» против Д. Д. Шостаковича и вскоре переросшей в тотальную войну против «формализма», и, по-видимому, не утрачивал надежд даже в разгар этих событий. В силу увлечения своей концепцией или даже самовнушения он убежден, что «на носу всамделишняя переоценка Гумилева» (письмо от 28 февраля 1936 г.). Он уверен, что его работа (или работы) будет отличаться от книги А. А. Волкова «Поэзия русского империализма» (M., 1935) объективностью и научностью; эти качества требовалось согласовать с оценочностью, поскольку полностью безоценочная работа о поэзии XX века была в то время решительно невозможна (как и последовательно формалистская), да темпераментный литературовед и не стремился к таковой, тем более что к оценкам его толкала и собственная стихотворная практика.
Хотя в письме от 19 февраля 1936 г. (три недели спустя после статьи в «Правде») выражено сильнейшее сомнение в возможности издать книгу, как и затем даже в возможности выступить с докладом перед литераторами и филологами (10 марта 1936 г.), он не считает положение безнадежным для себя и во всяком случае не хочет быть жертвой – напротив, намеревается при случае играть в сложившейся ситуации определенную роль, несомненно культурную, но достаточно гибко учитывающую давление государства. Намечавшийся, видимо при посредстве Мандельштама, доклад вряд ли состоится, резонно полагает Рудаков, но, если ему предоставят трибуну, он будет во всеоружии: «надо подробно почитать данные последнего пленума» Союза писателей. Сообщая деловые подробности, он явно предвкушает, как будет проводить и защищать свои излюбленные идеи, минуя идеологические ловушки и отражая наскоки функционеров, требующих, как сказано в одном из следующих писем, «все время клясться, „что не формалист“» (16 марта 1936 г.). Особенно интересно письмо от 17 марта 1936 г. Здесь, с одной стороны, Рудаков констатирует по поводу кампании против «формализма» и общей ситуации в культуре: «Это все очень значительно и окончательно», а с другой – заявляет: «Знаю, что сейчас мог бы делать большие вещи. Препятствие – косность литературы (и среды)». Он, по-видимому, верил, что в своей сфере, пользуясь богатством культурного тезауруса и при условии хотя бы небольшой свободы маневра (которой препятствует «косность») и правильно рассчитанной тактики (о которой трудно сговориться с импульсивным Мандельштамом), он способен «перехитрить» официальных идеологов. Устрашающие внелитературные факторы могут быть «конверсированы» благоприятным для исследователя образом путем приемлемых компромиссов и акцентирования всего того в его взглядах и планах, что не противоречило бы прямо требованиям государственной идеологии и могло бы оказаться точками соприкосновения с ней, – опорными точками для реализации подлинно культурных и важных для него идей и тем. Такого рода настроения были широко распространены среди людей науки и искусства в 20–30‐х гг. – свидетельства этого обнаруживаются во многих биографиях.
Для каждого конкретного случая надо попытаться понять реальные истоки того, что представляется фантастическим в подобных умонастроениях современному историку культуры.
Можно думать, что оптимист Рудаков, готовясь принять участие в дискуссии о «формализме», ориентировался на значительно более благоприятное событие полуторагодичной давности – доклад Н. И. Бухарина на I съезде писателей. Для Рудакова должны были быть важны не только «либеральность» доклада, его культурная оснащенность и явные отличия от стиля партийно-государственных директивных текстов, но и то, что Бухарин подробно говорил о формальном подходе. Он начал с вопроса о «поэзии как таковой», цитировал при этом «Слово» Гумилева, выделял среди формалистов Жирмунского, а Шкловского назвал, критикуя его, «одним из самых выдающихся теоретиков формализма». Как и у Троцкого одиннадцатью годами ранее в статье о формальной школе[1320]; как у самого Бухарина в выступлении во время дискуссии 1925 г. об искусстве и революции[1321], идеологически обусловленное общее отношение к формальной школе могло быть только негативным, но для 1934 г., когда она уже несколько лет как перестала существовать, явилось либеральной неожиданностью само внимание, уделенное ей в докладе, имевшем ранг официального. Если в 1924 г. Б. М. Эйхенбаум на равных полемизировал с Троцким, остро иронизируя над его признанием того, что «известная часть изыскательской работы формалистов вполне полезна», и настаивая на отнюдь не вспомогательном, но методологическом значении формального принципа для конституирования литературоведения в качестве самостоятельной науки

На протяжении всей своей истории люди не только создавали книги, но и уничтожали их. Полная история уничтожения письменных знаний от Античности до наших дней – в глубоком исследовании британского литературоведа и библиотекаря Ричарда Овендена.

Обновленное и дополненное издание бестселлера, написанного авторитетным профессором Мичиганского университета, – живое и увлекательное введение в мир литературы с его символикой, темами и контекстами – дает ключ к более глубокому пониманию художественных произведений и позволяет сделать повседневное чтение более полезным и приятным. «Одно из центральных положений моей книги состоит в том, что существует некая всеобщая система образности, что сила образов и символов заключается в повторениях и переосмыслениях.
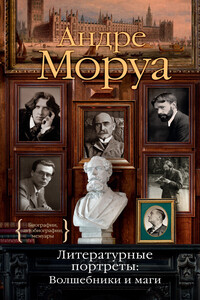
Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку о ком-либо из коллег по цеху, не было случайным.

Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку, посвященному тому или иному коллеге по цеху, – не было случайным.
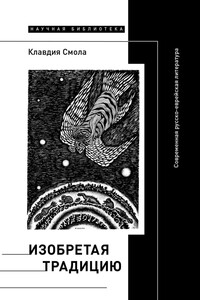
Как литература обращается с еврейской традицией после долгого периода ассимиляции, Холокоста и официального (полу)запрета на еврейство при коммунизме? Процесс «переизобретения традиции» начинается в среде позднесоветского еврейского андерграунда 1960–1970‐х годов и продолжается, как показывает проза 2000–2010‐х, до настоящего момента. Он объясняется тем фактом, что еврейская литература создается для читателя «постгуманной» эпохи, когда знание о еврействе и иудаизме передается и принимается уже не от живых носителей традиции, но из книг, картин, фильмов, музеев и популярной культуры.

Что такое литература русской диаспоры, какой уникальный опыт запечатлен в текстах писателей разных волн эмиграции, и правомерно ли вообще говорить о диаспоре в век интернет-коммуникации? Авторы работ, собранных в этой книге, предлагают взгляд на диаспору как на особую культурную среду, конкурирующую с метрополией. Писатели русского рассеяния сознательно или неосознанно бросают вызов литературному канону и ключевым нарративам культуры XX века, обращаясь к маргинальным или табуированным в русской традиции темам.