Избранные произведения - [71]
Я уже спрятал в ящик письменного стола фотографию прежних времен и снова нахожусь в церкви, где пахнет смертью; поставщик автотранспорта, отец юной девушки, оказался прав. Всегда ли бывает так, что нечистые оказываются правы? Это мне должен разъяснить Пайзиньо, но я не имею права его разыскивать, он даже не сможет прийти попрощаться с Маниньо, теперь нас, ребят из Макулузу, осталось только двое.
— Но ведь мы мужчины!
Я не хочу тебя видеть, мама, когда войду в церковь, и потому поджидаю удобного случая, чтобы отыскать тропинку, которая бы увела меня подальше от ритуальных обрядов со свечами и торопливой молитвой на латыни. И все же мне ужасно хотелось бы еще раз взглянуть на Маниньо, лучшего из нас, кому предназначались улыбки девушек и запах роз.
Запах смерти, запах кофе, запах роз, река крови внутри нашего тела — сколько пронесет она в себе запахов за всю жизнь? — запах вымытого душистым мылом тела Марии и зеленой травы, примятой нашими телами; запах сырости из глубины пещеры Макокаложи; запах сухой земли, смоченной первыми каплями дождя, когда гроб Маниньо, лучшего среди нас, опустят в могилу. И наконец, запах жженых клопов — вам никогда не приходилось на выпускном балу в честь окончания лицея нюхать этот запах, которым пропитался взятый напрокат костюм? — мне всего шестнадцать лет от роду, и моя любимая девушка говорит с милой улыбкой, уверенная в своей красоте и неотразимости:
— Что за странный запах! Это от костюма или еще от чего-нибудь?
Мария, Мария, какой непосредственной ты была во всем, даже в своей жестокости, ты жила с нами, пока кузина Жулия не решила, что я слишком вырос, чтобы ты могла оставаться у нас в безопасности, и переселила тебя в семью к Фонсекам, у которых сын был еще маленьким, а отец даже в кино не ходил без пиджака, мать же с трудом удерживала равновесие на пятисантиметровых каблуках, ты же знала, отчего у костюма такой запах, охота на клопов была одним из твоих немногих удовольствий по воскресеньям — жечь, давить, расплющивать, уничтожать.
Огнемет из свернутых в трубку газет, дым напалма от горящего керосина, кипящая вода в больших консервных банках и твои побелевшие от волнения губы, ты кричишь:
— Вон они там, там! Маниньо, дави же скорей, дави их, дурень!
И они, ошалевшие от яркого солнечного света, расползались кто куда, похожие на крохотных тараканов; мы наступали на них босыми ногами — щелк, и готово — капелька крови и этот запах, о котором ты говорила на выпускном вечере, только ты уже не была ни искренней, ни непосредственной, ни откровенной, ты не сказала прямо — пахнет клопами, а выразилась неопределенно: «Это от костюма или еще от чего-нибудь?»
Конечно, еще от чего-нибудь, Мария, еще от чего-нибудь: огромная на высоких ножках двуспальная кровать с медными шишечками и лепными украшениями над четырьмя колоннами, которые мама каждое воскресенье начищала лимонным соком с золой. И ведра кипящей воды, горящие факелы из газет, и охота на клопов, а в конце дня, когда мама садилась наконец отдохнуть, ее прерывающийся от отчаяния голос:
— Неужели мы никогда не покончим с клопами?!
И я, не оглядываясь, сбегаю по лестнице, ты несешься за мной и около старого заброшенного домика на склоне холма начинаешь бить меня кулачками в грудь, злая и холодная, тебе хочется, чтобы я в своем унижении захлебнулся рыданиями. Меня легко довести до слез, ты давно уже поняла, Мария, что я редко смеюсь и часто плачу, глаза мои не обманывают, и твои глаза медового цвета тоже не лгут, просто я не умею по ним читать. И пока до нас все еще доносится смутный шум — это разъезжаются по домам выпускники лицея: хлопают дверцы автомобилей, мама со служанкой или отец приехали охранять со всей строгостью невинность своей дочери, чтобы кто-нибудь не воспользовался ее неопытностью, они боятся утратить это сокровище, а вместе с ним честь, которой у них никогда не было, — мы считаем звезды, я тебе их показываю, ты запоминаешь, глядя мне в глаза, и даже сейчас мои пальцы помнят выпуклость вышитого белым мулине цветка на твоем голубом платье. «Я сама его вышивала», — гордо заявила ты мне, и я даже не мог представить твою склоненную над работой спину, я видел только твои медовые глаза, которые лгали даже тебе самой, лгали мне, а нам обоим хотелось верить, что все это правда.
Рут в церковь не пришла, незачем искать ее глазами; будто окаменевшая от горя, она все так же неподвижно лежит на кровати моей матери. А вдруг я ее сейчас увижу здесь? Вдруг подойду вместе с ней к Маниньо, к живому Маниньо, не к тому, что лежит в гробу? Но проще оставаться на месте, я начинаю уставать, легче представить его рядом со мной в воображении — вот мы втроем: я, Рут и полководец королевства любви, которому она подписала дарственную на себя самое, — присутствуем на отпевании покойника в церкви Кармо. Я веду Рут под руку, но мы уже не на новогоднем ужине в офицерском клубе, и я не знаю, кто со мной рядом, в голове у меня помутилось. Должно быть, это от запаха ладана и восковых свечей, они напоминают чьи-то глаза и, словно фонарики, освещают переход в потусторонний мир по мосту над рекой забвения — в Ормуз или Ариман? Да, должно быть, это от ладана, от всех впитавшихся в мою кожу запахов. Прости меня, Рут, наверное, я всю жизнь буду говорить встреченным мною женщинам «прости», я их недостоин, они никогда не нравятся мне безоговорочно, целиком, что-то в них раздражает меня, вызывает протест. И теперь я жалею, что ты осталась дома, я предпочел бы видеть тебя здесь, около меня, моя мулаточка, почти невестка. Я вижу тебя как живую: большие, широко раскрытые глаза, карие и наивные, словно нарисованные, четкие дуги бровей, густые короткие ресницы, нос — какой у тебя нос? Чуточку вздернутый, хотя ты этого не признаешь, одно удовольствие видеть, как раздуваются, трепещут его крылья, когда ты радуешься. Губы — разве в нашем словаре существует лишь одно слово «чувственные», чтобы описать твои губы? Они у тебя целомудренные, выражающие любовь к жизни. Овал лица самый обыкновенный, черные волосы разви́ты. Вот таким видится мне твой образ, нарисованный мною в воображении, только все равно это не ты, тебя здесь нет, моя почти невестка. Едва я соберу воедино твои черты, едва удастся уловить их, одну за другой, во всех подробностях, и хоть на мгновение составить из них единое целое, как все опять рассыпается, ускользает от меня, но это и не важно, все равно это не ты. Недостает какого-то пустяка, незначительной на первый взгляд особенности, отличающей тебя от других. Может быть, ласкового тепла, излучаемого твоей кожей? Или ее анисового оттенка, напоминающего по цвету орех кола-макезо? Или чуть заметной гримаски, едва намечающейся морщинки около губ? Улыбка — это жизнь, истинная жизнь, а истинной жизни как раз и не хватает в созданном мной образе, этот пробел можно восполнить, только если ты окажешься у меня перед глазами и скажешь со своей всегдашней улыбкой: «Приходи ко мне, Майш Вельо! Мы послушаем твою любимую музыку „Кабулу“…» — вот теперь ты такая, как обычно, настоящая.

Прямо в центре небольшого города растет бесконечный Лес, на который никто не обращает внимания. В Лесу живет загадочная принцесса, которая не умеет читать и считать, но зато умеет быстро бегать, запасать грибы на зиму и останавливать время. Глубоко на дне Океана покоятся гигантские дома из стекла, но знает о них только один одаренный мальчик, навечно запертый в своей комнате честолюбивой матерью. В городском управлении коридоры длиннее любой улицы, и по ним идут занятые люди в костюмах, несущие с собой бессмысленные законы.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
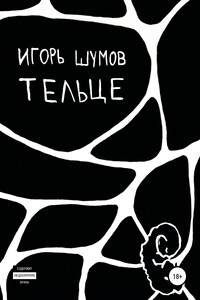
Творится мир, что-то двигается. «Тельце» – это мистический бытовой гиперреализм, возможность взглянуть на свою жизнь через извращенный болью и любопытством взгляд. Но разве не прекрасно было бы иногда увидеть молодых, сильных, да пусть даже и больных людей, которые сами берут судьбу в свои руки – и пусть дальше выйдет так, как они сделают. Содержит нецензурную брань.

Первая часть из серии "Упадальщики". Большое сюрреалистическое приключение главной героини подано в гротескной форме, однако не лишено подлинного драматизма. История начинается с трагического периода, когда Ромуальде пришлось распрощаться с собственными иллюзиями. В это же время она потеряла единственного дорогого ей человека. «За каждым чудом может скрываться чья-то любовь», – говорил её отец. Познавшей чудо Ромуальде предстояло найти любовь. Содержит нецензурную брань.

К Пашке Стрельнову повадился за добычей волк, по всему видать — щенок его дворовой собаки-полуволчицы. Пришлось выходить на охоту за ним…

Автобиографическую эпопею мастера нон-фикшн Александра Гениса (“Обратный адрес”, “Камасутра книжника”, “Картинки с выставки”, “Гость”) продолжает том кулинарной прозы. Один из основателей этого жанра пишет о еде с той же страстью, юмором и любовью, что о странах, книгах и людях. “Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «Княгиня Гришка» – так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории” (Александр Генис).