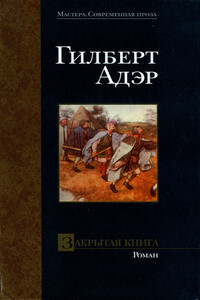— Извините, господа и сэры, — обратился к нам Покинутый с поклоном, — тут этот «Я УБЕЖАВШИЙ» обещает вернуться, если денег подадите. Вы уж подайте Христа ради!
— Христа ради? — удивился Суер, вспоминая, видно, недавнюю нашу распрю. — Это уж ради примирения вас с самим собою.
— Почему же не Христа ради? Господу, может, угодно такое примирение?
— Тогда уж примиряйтесь бесплатно. Впрочем, вот целковый.
— Маловато, сэр, — почесал в затылке Покинутый. — Боюсь, Я УБЕЖАВШИЙ не вернётся. Погодите, я покричу. Эй ты, Я УБЕЖАВШИЙ! Эй! Тут дали целковый!
— Не, — отвечали из-за скалы, — не вернусь.
— Вертайся, хватит!
— Да ну тебя, дурака слабоумного, и просить-то толком не умеешь.
— Вернись же, вернись! Хочешь, я курить брошу?
— Да ну, ерунда, враньё, силы воли не хватит.
— И пить брошу, клянусь!
— А это ещё зачем?
— А что, не надо?
— Пей, но в меру. Но главное — денег проси, иначе — не вернусь. Поеду в Мытищи, у меня там баба знакомая.
— Это Людка, что ли?
— Вспомнил наконец, тоже мне…
— Так её ж посадили!
— Да не её, дурак, сына посадили, Боряшку! Ну и папаша! Всё! Пока! Уезжаю в Мытищи! Ты не помнишь, когда уходит последняя электричка?
— Сэры! Сэры! — рыдал Покинутый. — Умоляю… Добавьте же… прошу…
— Сколько же надо? — начиная раздражаться, спросил капитан.
— Эй ты, Я! — крикнул Покинутый. — А сколько надо?
— Бери червонец, за меньшее не вернусь!
— Вы слышали, сэры? Червонец!
— Прямо не знаю, — сказал капитан, — у кого из нас есть на червонец жалости? Может, у вас, старпом?
— Чего? — удивился Пахомыч, в некоторых ситуациях сильно напоминающий господина боцмана. (Подчеркнём — в некоторых.)
— Жалости на червонец есть?
— Жалости много, — отвечал старпом, — а червонца нету. Пусть берёт чистую жалость, бесплатно. Между прочим, в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году моя жалость на чёрном рынке в Неаполе кое-кому дорого обошлась.
(Тут мы должны отметить, что на такую сложную жалость боцман всё-таки не тянет.)
— А вы, лоцман?
— Видите ли, сэр, — отвечал лоцман, оправляя галстук-бабочку в клеточку, — видите ли, сэр… видите ли, дорогой сэр… Конечно, вы видите, уважаемый сэр, что этот, с позволения сказать — чэловэк уже имеет два целковых, разделённых как раз поровну между частями особи. Одна часть особи, убежавшая, имеет ещё и гривенник старпома, то есть неоспоримое преимущество. То есть мало того, что она убежала от самоё себя, у нее ещё и на гривенник больше. Предлагаю всё-таки путь равенства и братства. Пусть убежавшая отдаст оставшейся пятак.
— С Гоголя получишь! — послышалось из-за скалы. — Тоже нашёлся утопический социалист. Кто это и когда делил всё поровну? Ха!
— У юнги денег нет, — сказал капитан сэр Суер-Выер и ласково поглядел на меня, — остаёшься ты, друг мой, — в ласке зазвучала ирония. — Что ты скажешь, голубь дорогой? До сих пор ты подавал подаяние. Мы не рассматривали, что это за подаяние. Подаяние и подаяние. Что ты скажешь сейчас? Может, добавишь гривенник?
Я так и знал, что всё это дело с нищими до особого добра не доведёт.
КАМЕНЬ, ЛОЖКА И ЧЕСНОК
— Прежде всего, кэп, — сказал я, — прежде всего: никто не имеет права анализировать подаяние. Кто что подал, то и подал. Меня, например, вполне устраивает открытый лоцман, щедрый капитан, разумный старпом. Что подал я — моё дело. Я никому не подотчётен. Подаяние — и всё! И привет! И пока! И до свиданья! Прошу отметить, что все были мною довольны и даже приговаривали: «Спаси Вас Господи!» Но если вас интересует, кому я что подал, могу сказать:
Древорукому — камень, Пеплоголовому — деревянную ложку, Нищему духом — головку чесноку.
Человеку, который убежал от самого себя, я тоже подал подаяние. Вы заметили? Это — небольшой кисет. По-моему, он так и не поинтересовался, что в кисете. Эй, любезный господин Покинутый, а где кисет, который я подал? У вас того, что убежал, или у вас того, что остался?
— У меня. Тот «Я» только деньги взял, а кисет, говорит, тебе оставлю. Кури!
— Загляните же в кисет.
— Чёрт-те что, — сказал Покинутый, развязав кожаную тесёмку. — Махорка, что ли? Или нюхательный табак? Порошок какой-то. Что же это?
— Неужели не догадываетесь?
— Никак не смекну. Надо понюхать.
— Погодите, не спешите нюхать. Это — курарэ! Толчёное курарэ! Здесь как раз хватит, понюхал — и… Вы, кажется, просили?
— Что это значит? — сказал Суер-Выер. — Ты с самого начала знал, чем всё кончится?
— Конечно, нет. Мне и в голову не приходило, что этот спектакль у них так здорово разыгран. И потом, согласитесь, выбежать из самого себя — это действительно редчайший случай. Но курарэ! Курарэ ведь может пригодиться в любом из вариантов: убежал или не убежал, а курарэ-то вот, пожалуйста! Тому, кто хочет убежать от самого себя, курарэ — хороший подарок.
— Да-а, — протянул Суер. — Но как ты истолкуешь камень, ложку и чеснок?
— Дорогой сэр! — отвечал я с поклоном. — Я уже и так не в меру разболтался. Камень, ложка и чеснок — предметы достойные. Их можно толковать как хочешь и даже сверхзамечательно. Я могу истолковать, но дадим же слово самому молчаливому. Пусть истолкует юнга Ю. У него нет денег, но есть некоторый хоть и детский, но симпатичный разум. Прошу вас, господин Ю.