Избранное - [5]
В идее единства, «непрерывности» народной морали при кажущемся возвращении назад крылся, таким образом, залог определенного художественного движения вперед. Главная социальная коллизия творчества Вереша от «возвращения» к людям обыкновенным не то что страдала, а обретала более прочную, широкую почву и опору. Глубже захватываемая и прослеживаемая повседневность привносила в поведение, внутренний облик героев множество бесценных человеческих оттенков: психология обогащалась. А значит, выигрывали образы и в социально-выразительной остроте. Не в последнюю очередь и отрицательные.
Почему нам особенно отвратителен добровольный барский прихвостень Андраш Тёрёк («Не урвешь — не проживешь»)? Да ведь именно эта его добровольность развернута, прослежена необыкновенно емко, несравнимо со сборником «Испытание», эта рьяная придирчивость верного хозяйского пса, большего «роялиста» в истовом своем усердии (и более ненавистного поэтому для крестьян), чем даже сами баре-короли.
Столь же красноречиво — сам за себя — говорит чуть более ранний образ Ибойки («Дурная жена»). Говорят ее крикливая меркантильность, ее тщеславное себялюбие, ее глупо-завистливый снобизм, поклонение субкультуре… Все ее мелкие пристрастия, склонности, привычки, индивидуально слагаясь, составляют зримую и яркую тогдашнюю венгерскую разновидность социального явления, именуемого в быту и поведении мещанством. (Деревенская ипостась этого типа предстает затем в «Разборчивой девушке» в лице Панни, антагонистки Боры.)
Не пострадала, а многое приобрела и манера письма Вереша: и в лиризме своем, и в неторопливой обстоятельности. То и другое лишь обновлялось, питаемое опытом жизни, общей и своей. Был когда-то его лиризм грустно-сочувственным, капельку фаталистичным («Неурожайный год»). Позже стал негодующе-укоризненным и дружелюбно-рассудительным («Три поколения», «Испытание», «Железнодорожные рабочие»). Порой и лукавая, даже коварная ирония окрашивала его — при соприкосновении с досадными нелепостями уже нашей современности (повесть «Дурная жена»). «Не так-то он прост, этот «народный писатель», как может показаться!» — подумает, и с полным правом, иной читатель повести.
Но и там эта ирония неразлучна с уверенной, спокойной доброжелательностью ответственного члена общества, который дальновидно и бережно, по-хозяйски взвешивает возможности бытия, трагически неполного раньше («Разборчивая девушка»), а ныне могущего вкусить что-то и от добытых социальных благ. С какой вдумчивой теплотой написан, например, рассказ «Маленькая осенняя буря» — о патриархах нового села, которое живет уже по законам душевной щедрости, наследуя и умножая нравственный капитал Яни Балога, Юльчи и Боры. Доброе, мудрое внимание сквозит меж его строк к стареющим людям, которые строили наше настоящее и до сих пор хотят быть полезными, остаются деятельными и любящими.
Словом, лиричность Вереша, интонационный ее строй насыщались социалистически зрелым интеллектом. И дотошная его обстоятельность подчинялась активно-ответственному лирическому мироощущению, всенародным гуманистическим перспективам: становилась дотошностью нравственно-психологической. Не «науку» рытья или других производственных процессов преподносит уже Вереш, а все многогранней познаваемую науку человеческого общежития.
Всегдашняя его пристальная наблюдательность приходится поэтому очень кстати при изображении деревни и новой, и опять старой, где царят стократ чуждые социалистическому взгляду, но тем тщательней обнажаемые законы не альтруизма, а воровства. Воруют даже «из брюха» помещичьей коровы, если отелилась парой («Не урвешь — не проживешь»). Одного-то, бычка, тогда почти безнаказанно можно украсть и съесть: кто дознается. Остерегаться только надо, как бы дыма от костра не заметили или проклятый этот Тёрёк не учуял, что пахнет жареным. Значит, лучше сварить, но не рано утром: летом это вещь необычная, а во время завтрака, будто простую затируху готовишь…
Из этих детальных разъяснений, этого «потока сознания», сомнений, колебаний, соблазнов, опасливых расчетов простого пастуха и рождается рассказ, целая главка его, которая вводит в гущу тогдашней деревенской жизни, во все ее мелочи, аналитически, изнутри показывая хитрые ее потайные пружинки. Скрытые правила убогого, мало сказать, нищего, а прямо-таки полуказарменного батрацкого существования в той малой вселенной, которая звалась имением, поместьем или пуштой и где такой пастух, овчар был мельчайшим из мельчайших тел: не астероидом даже, как Тёрёк, а метеоритом, песчинкой. Только что песчинкой живой и изловчавшейся жить, несмотря на всю совершенно неживую, оголенно математическую и отнюдь не «небесную», а тиранически-обыденную механику этой вселенной: механику наказания — хищения.
Нить любопытного сходства-различия протягивается между этим рассказом и появившейся за тридцать лет до него известной поэмой Дюлы Ийеша «Слово о героях». Тот писал о таком же батрацком воровстве, но в шутливо-озорном стиле, взрывая идиллию, непринужденно переиначивая само понятие героизма. Обокрасть настоящего грабителя, помещика, было ведь тогда поистине гражданской добродетелью!.. Для Вереша это — лишь неизбежное зло, которое он не воспевает и не прощает, а только досконально расследует, понимает.
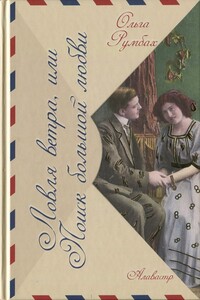
Книга «Ловля ветра, или Поиск большой любви» состоит из рассказов и коротких эссе. Все они о современниках, людях, которые встречаются нам каждый день — соседях, сослуживцах, попутчиках. Объединяет их то, что автор назвала «поиском большой любви» — это огромное желание быть счастливыми, любимыми, напоенными светом и радостью, как в ранней юности. Одних эти поиски уводят с пути истинного, а других к крепкой вере во Христа, приводят в храм. Но и здесь все непросто, ведь это только начало пути, но очевидно, что именно эта тернистая дорога как раз и ведет к искомой каждым большой любви. О трудностях на этом пути, о том, что мешает обрести радость — верный залог правильного развития христианина, его возрастания в вере — эта книга.

Шестеро молодых парней и одна девушка – все страстно влюбленные в музыку – организуют группу в надежде завоевать всемирную известность. Их мечтам не суждено было исполниться, а от их честолюбивых планов осталась одна-единственная записанная в студии кассета с несколькими оригинальными композициями. Группа распалась, каждый из ее участников пошел в жизни своим путем, не связанным с музыкой. Тридцать лет спустя судьба снова сталкивает их вместе, заставляя задуматься: а не рано ли они тогда опустили руки? «Французская рапсодия» – яркая и остроумная сатира на «общество спектакля».
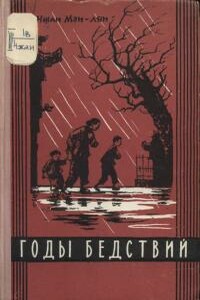
Действие повести происходит в период 2-й гражданской войны в Китае 1927-1936 гг. и нашествия японцев.
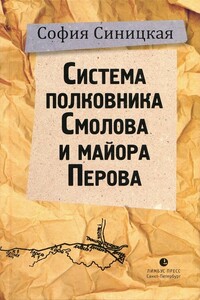
УДК 821.161.1-31 ББК 84 (2Рос-Рус)6 КТК 610 С38 Синицкая С. Система полковника Смолова и майора Перова. Гриша Недоквасов : повести. — СПб. : Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2020. — 249 с. В новую книгу лауреата премии им. Н. В. Гоголя Софии Синицкой вошли две повести — «Система полковника Смолова и майора Перова» и «Гриша Недоквасов». Первая рассказывает о жизни и смерти ленинградской семьи Цветковых, которым невероятным образом выпало пережить войну дважды. Вторая — история актёра и кукольного мастера Недоквасова, обвинённого в причастности к убийству Кирова и сосланного в Печорлаг вместе с куклой Петрушкой, где он показывает представления маленьким врагам народа. Изящное, а порой и чудесное смешение трагизма и фантасмагории, в результате которого злодей может обернуться героем, а обыденность — мрачной сказкой, вкупе с непривычной, но стилистически точной манерой повествования делает эти истории непредсказуемыми, яркими и убедительными в своей необычайности. ISBN 978-5-8370-0748-4 © София Синицкая, 2019 © ООО «Издательство К.
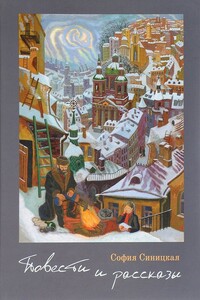
УДК 821.161.1-3 ББК 84(2рос=Рус)6-4 С38 Синицкая, София Повести и рассказы / София Синицкая ; худ. Марианна Александрова. — СПб. : «Реноме», 2016. — 360 с. : ил. ISBN 978-5-91918-744-8 В книге собраны повести и рассказы писательницы и литературоведа Софии Синицкой. Иллюстрации выполнены петербургской школьницей Марианной Александровой. Для старшего школьного возраста. На обложке: «Разговор с Богом» Ильи Андрецова © С. В. Синицкая, 2016 © М. Д. Александрова, иллюстрации, 2016 © Оформление.
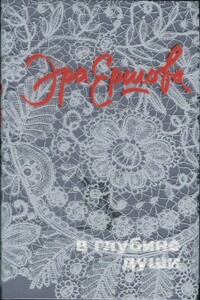
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.

В сборник включены роман М. Сабо и повести известных современных писателей — Г. Ракоши, A. Кертеса, Э. Галгоци. Это произведения о жизни нынешней Венгрии, о становлении личности в социалистическом обществе, о поисках моральных норм, которые позволяют человеку обрести себя в семье и обществе.На русский язык переводятся впервые.
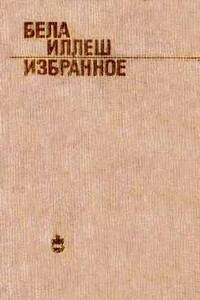
Книга состоит из романа «Карпатская рапсодия» (1937–1939) и коротких рассказов, написанных после второй мировой войны. В «Карпатской рапсодии» повествуется о жизни бедняков Закарпатья в начале XX века и о росте их классового самосознания. Тема рассказов — воспоминания об освобождении Венгрии Советской Армией, о встречах с выдающимися советскими и венгерскими писателями и политическими деятелями.
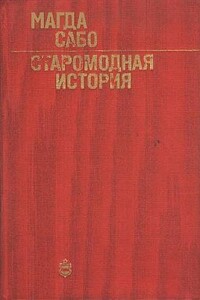
Семейный роман-хроника рассказывает о судьбе нескольких поколений рода Яблонцаи, к которому принадлежит писательница, и, в частности, о судьбе ее матери, Ленке Яблонцаи.Книгу отличает многоплановость проблем, психологическая и социальная глубина образов, документальность в изображении действующих лиц и событий, искусно сочетающаяся с художественным обобщением.

Очень характерен для творчества М. Сабо роман «Пилат». С глубоким знанием человеческой души прослеживает она путь самовоспитания своей молодой героини, создает образ женщины умной, многогранной, общественно значимой и полезной, но — в сфере личных отношений (с мужем, матерью, даже обожаемым отцом) оказавшейся несостоятельной. Писатель (воспользуемся словами Лермонтова) «указывает» на болезнь. Чтобы на нее обратили внимание. Чтобы стала она излечима.