Избранное - [6]
Молодой человек понял это и, не любопытствуя больше, опять погрузился в чтение. А девушка, переменив место, села напротив священника, который вел себя все это время так, будто не заметил ничего. Читал себе свой напечатанный красным шрифтом молитвенник, прислонясь головой к окошку, выходящему в коридор. Болезненное лицо его с выступающими скулами сохраняло полное спокойствие.
Сутана у него была поношена, даже без одной пуговицы; целлулоидный воротничок потрескался. Этот рядовой служитель могущественной церкви, который возвращался к себе в деревню, где состарился в делах любви и добра, догадывался, в чем дело. Но чувство такта повелевало ему молчать, а участие — не проявлять интереса. Он знал, что мир сей — юдоль скорби.
Только теперь поднял он на девушку свои голубые глаза, взгляд которых от постоянного созерцания бога приобрел необычайную остроту и проницательность. Но этот пристальный взгляд уже не задел ее. Наоборот, она почувствовала, как внутренний жар ее словно остывает, и сама благодарным взглядом ответила на это внимание.
Припадок прошел. Она не рыдала больше, только всхлипывала. Потом совсем успокоилась и стала смотреть то в окно, то на усталого, обносившегося священника, который в свои шестьдесят с лишним лет, на краю могилы достиг такой удивительной простоты, что и молча умел ободрить, поддержать, утешить. Они промолчали всю дорогу.
Спустя полчаса молодой человек встал, вскинул на плечо двустволку, взял охотничью шляпу с пером и вышел. Девушка простилась с ним кивком.
В Таркё священник ей помог вынести вещи. Дядя Бела издали уже махал рукой, стоя в бричке. Добродушное крепкоскулое лицо его, выдубленное здоровым ветром пусты, сияло. В зубах дымилась сигаретка. Он был заядлый курильщик.
Жаворонок наш улыбнулся. У дядюшки борода была красновато-рыжая, совсем как его излюбленный трубочный табак, который он всегда курил. Родственный поцелуй его тоже отдавал табачком.
И еще встречал ее Тигр — охотничий пес. Едва они тронулись, он побежал рядом с бричкой и не отставал до самого хутора.
Глава третья,
в которой сообщается кое-что о первом дне папы и мамы
Отставной комитатский[8] архивариус, кишвайкский и керешхедьский Вайкаи Акош и супруга его, урожденная Божо Антония из Кецфальвы, все смотрели вослед поезду, который, пыхтя, уносился вдаль и вскоре превратился в дымную черную точку на горизонте.
Смотрели, уставясь в пространство, с тупой печалью людей, которых сразила внезапная потеря, не в силах сдвинуться с места, где последний раз видели свою дочь.
Уехавший ведь исчезает, словно уничтожается. Да его и в самом деле нет. Остается лишь память о нем, которая живет в нашем воображении. Мы знаем, что он где-то там, но не видим его, как и умерших. А Жаворонок ни разу еще не покидал их надолго. Самое большее упорхнет на денек в Цеглед или на полдня — за город, погулять в тарлигетской роще. И то они никак дождаться не могли. И вот — трудно себе даже представить — надо возвращаться в опустелый дом.
Такие приблизительно мысли одолевали стариков. Повесив головы, взирали они на железнодорожную насыпь чуть не с такой же тоской, как на свежий могильный холм.
Одиночество уже их тяготило. Томительное, необъятное, нависало оно над ними, как сама тишина, наступившая после отхода поезда.
Стоявший на путях худенький железнодорожный чиновник с крылатым колесом на красной нарукавной нашивке нерешительно направился мимо них к зданию станции.
Лицо у него было бледное, хотя низкий лоб под фуражкой цвел ярко-вишневыми прыщами. Форменная одежда болталась на плечах, как на вешалке.
Дышал он с трудом, так как не вылезал из насморков, и даже в эту солнечную погоду левая ноздря была у него заложена. Чтобы замаскировать как-нибудь свое сопенье, он изредка вздыхал или покашливал, хотя кашлять ему не хотелось.
Старики сразу его узнали: Геза Цифра.
Жена тронула мужа за руку. Акош тоже его заметил, даже раньше, только не хотел говорить.
Посовещавшись, они отвернулись. Видеться с ним у них не было никакой охоты.
Тезу они знали вот уже девять лет.
В свое время, переведенный сюда, Цифра нанес им как-то визит, и Вайкаи приняли его с подкупающим радушием. Несколько раз звали к себе выпить чаю, поужинать. Геза Цифра принимал приглашения, но единственно от робости: он никому не решался сказать «нет». Хвалил чай, хвалил ужин, на балах женской католической лиги вторую кадриль танцевал с их дочерью, захватывал ее даже с собой на тарлигетское озеро покататься большой компанией на лодках, словом, оказывал ей внимание, насколько вообще умел оказывать его женщинам. И тогда без всяких на то оснований в городе заговорили о его женитьбе на Жаворонке — и Геза перестал к ним приходить.
Он нашел себе другое общество. Стал якшаться с какими-то писцами, темными личностями из канцеляристов, еще ниже его по положению, но ближе ему, больше под стать по убогому умственному уровню. Старых же друзей стал чураться, как иной стыдится жены, с которой сочетался неравным браком. Правда, и с новыми избегал показываться. Они сходились тайком у себя на квартирах и там уж чернили, подымали на смех все и вся, а особенно друг дружку. Какой-нибудь янтарный мундштучок, серебряный портсигар вызывали у них такую зависть, а подвалившие кому-нибудь деньжата или наследство такую злобу, что обойденные судьбой тотчас вступали в заговор против счастливчиков и старались — конечно, под личиной дружбы — самым злостным образом навредить, оклеветать анонимкой, подставить ножку.
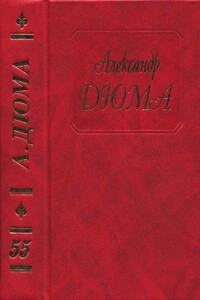
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
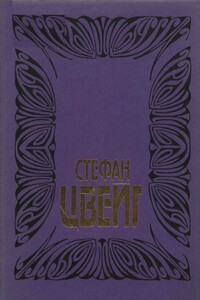
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

«Заплесневелый хлеб» — третье крупное произведение Нино Палумбо. Кроме уже знакомого читателю «Налогового инспектора», «Заплесневелому хлебу» предшествовал интересный роман «Газета». Примыкая в своей проблематике и в методе изображения действительности к роману «Газета» и еще больше к «Налоговому инспектору», «Заплесневелый хлеб» в то же время продолжает и развивает лучшие стороны и тенденции того и другого романа. Он — новый шаг в творчестве Палумбо. Творческие искания этого писателя направлены на историческое осознание той действительности, которая его окружает.

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».
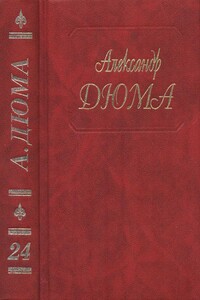
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.