Избранное - [8]
В обществе он не бывал уже много лет, не пил и не курил. По настоянию доктора Галя, их домашнего врача, и пештского[9] профессора, у которого пришлось побывать, он из-за атеросклероза отказался не только от спиртного, но и главного своего удовольствия — сигар.
Единственной страстью, которой остался он верен, было, усевшись в своей выходящей во двор и вечно сырой комнатушке, достать какой-нибудь том Ивана Надя о венгерских дворянских родах или полистать бесценную, упоительную книжечку, гербовник Гезы Чергё. Смыслил Акош и в геральдике — науке о гербах, и в дипломатике — науке о старинных латинских посланиях, и в сфрагистике — о печатях. Любовно рассматривал и скандировал «litteræ armales» — жалованные грамоты давно забытых королей, и не было такого кусочка пергамента, служившего жребием при разделах земли, старинного «executionale» — исполнительного листа — или так называемого «fassio» — вызова на допрос церковного капитула, о котором он тут же не мог бы дать нужной справки. Беглый взгляд — и не оставалось места сомнениям, к кому восходит родословная, что означает поперечина, простерший крылья орел или золотое ядро в гербовом поле. Всем своим существом наслаждался он этим занятием, для него воистину призванием. Какой радостью было вдыхать бесподобный, чуть кисловатый плесенный дух, разглядывая в лупу зазубренные следы мышиных зубов, проеденную молью круглую дырочку или извилистый ход древоточца. Это и была его жизнь: глубь веков. И как иные к гадалкам и прорицателям, так к нему долго еще стекались знатные господа из соседних комитатов — узнать не будущее свое, а прошлое.
В молодые годы Акош только для заработка возился с «дедукцией» и «филиацией», подтверждающей благородное происхождение. Но не мог от нее оторваться, когда и прямая нужда в этом отпала. Словно в решение шахматной задачи, погружался в изучение какой-нибудь «donatio regia»[10], доискиваясь до дедов, прадедов и прапрадедов вплоть до самого великого Предка, первоприобретателя, по-латыни — «primus acquirens», который своей ловкостью и находчивостью обеспечил благополучие целых поколений, озарил все потомство лучами своей доблести и славы. Голова его была полна разными стольниками, дамами Звездного креста[11], мальтийскими рыцарями, и в голосе сквозило глубокое почтение ко всем этим именитостям.
А не находилось заказа, обследовал он просто знакомых. Задался, например, целью выяснить происхождение Гезы Цифры, и генеалогическая таблица некоторое время успешно заполнялась. Съездил даже в архив соседнего комитата за новыми данными, но на том разыскания и прервались. Уже о прадеде Гезы Цифры с отцовской стороны ни сам он, ни документы не могли сообщить ничего вразумительного. Родословное древо, которое Акош начал рисовать, захирело, будто сломанное вихрем; зазеленевшие было ветви засохли. И, попадаясь среди бумаг, оно вызывало у него только язвительную улыбку. Геза Цифра даже дворянином не был — так, невесть откуда взявшийся безродный проходимец.
Зато сколько мог он порассказать о собственных предках, которые давным-давно опочили, но были ему ближе иных живущих: о прикарпатских Адамах и Шамуэлях Вайкаи, спускавшихся из неприступных своих орлиных гнезд похищать девушек; о разных Кларах, Каталин, Элизабет и прочих дамах, танцевавших на пудреных балах Марии-Терезии. Или о могущественных Божо из рода жены, об имениях, где они до самой середины восемнадцатого века роскошествовали, как вельможи; о каком-нибудь словечке, отпущенном ими в незапамятные времена, или золотой лилии на алом поле в их гербе. В жилах Божо текла кровь столь древняя, что никаких дворянских грамот у них просто не водилось. Дворянство их было еще жалованное, полученное с поместьем, герб тоже наследовался по праву древнего usus’а — обычая, который старше всех законов. В кабинете Акоша на стене висели и этот герб в рамке, и родословное семейное древо, которое ценой кропотливых десятилетних трудов возвел он до эпохи короля Эндре Второго и собственноручно раскрасил бледной акварелью. Скромная его должность и небольшие доходы не дозволяли испросить себе звание камергера, хотя он не однажды с полным правом мог бы на него претендовать. Но и не жалел об этом никогда. Человеку не тщеславному, ему довольно было одного этого права. Оно и питало его тайную гордость, а осуществимость мало заботила.
Труды свои к пятидесяти годам он закончил. Все Божо и Вайкаи разместились на ветвях его родословного древа. Что еще оставалось делать? Часами он просиживал в своем кабинетике на застланной поддельным турецким ковром скрипучей кушетке, роясь в старинных грамотах, пергаментах, документах и сам словно покрываясь седой пылью веков. Сидел и размышлял о будущем.
Но в будущем лишь одно вырисовывалось с достаточной определенностью: близкая смерть. О ней он говорил с беспощадной, старчески безразличной обстоятельностью, не раз вызывавшей слезы у дочери и жены.
На могиле своих давно опочивших родителей воздвиг он темно-коричневое мраморное надгробие с высеченной золотыми буквами надписью: «Фамильная усыпальница Вайкаи». Содержалась она им в порядке: газон поливался, по углам было посажено четыре кустика букса, а скамейка, на которой, приходя, предавался он своим думам, покрашена масляной краской.

Роман «Призовая лошадь» известного чилийского писателя Фернандо Алегрии (род. в 1918 г.) рассказывает о злоключениях молодого чилийца, вынужденного покинуть родину и отправиться в Соединенные Штаты в поисках заработка. Яркое и красочное отражение получили в романе быт и нравы Сан-Франциско.
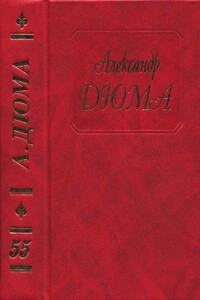
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
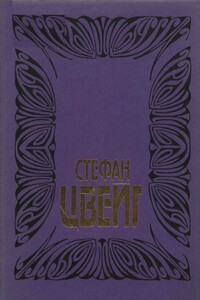
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

«Заплесневелый хлеб» — третье крупное произведение Нино Палумбо. Кроме уже знакомого читателю «Налогового инспектора», «Заплесневелому хлебу» предшествовал интересный роман «Газета». Примыкая в своей проблематике и в методе изображения действительности к роману «Газета» и еще больше к «Налоговому инспектору», «Заплесневелый хлеб» в то же время продолжает и развивает лучшие стороны и тенденции того и другого романа. Он — новый шаг в творчестве Палумбо. Творческие искания этого писателя направлены на историческое осознание той действительности, которая его окружает.

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».