Избранное - [5]
Дома жизнь у них текла без особых огорчений. Но подвернется случай, благовидный предлог, и слезы — рекой. «Всласть наревелись», — говаривали они потом, принужденно улыбаясь и вытирая глаза.
И на сей раз оба проливали слезы.
Дочь, устроясь в купе и облокотясь на опущенное окно, увидела вдруг, что старики ее плачут. Она приняла было деланно-безразличный вид, попыталась улыбнуться, но раскрыть рот не решилась: побоялась, что у самой прервется голос.
Долгим было это расставанье и трудным. Поезд все никак не отправлялся. Местные поезда не могут без сюрпризов. Сначала такой поезд припугнет вас, будто сейчас тронется, дернет даже раз-другой с превеликим лязгом и скрежетом. Но в последнюю минуту обязательно обнаружатся какие-нибудь досадные неполадки. Так что времени у них оставалось предостаточно. Все, что можно сказать, было сказано, и больше слов не находилось. Отерев глаза, старики переминались с ноги на ногу, желая одного: скорее бы уж кончилось это затянувшееся прощанье.
— Смотри не простудись, — с беспокойством напомнила мать. — Недолго ведь в такую адскую жару.
— Вода во фляжке, — еще раз предупредил отец. — Холодной не пей.
— И дынь не ешь. И салата из огурцов. Пожалуйста, Жаворонок, прошу тебя, ни в коем случае.
Паровоз испуганно свистнул. Все трое вздрогнули. Но поезд не тронулся с места.
— Ну, с богом, дочка, — собрав все свои силы и с мужественной решимостью кладя конец разговору, сказал Акош. — Господь с тобой, береги себя.
— Жаворонок! — зубами сжав кончик носового платка, чтобы удержать подступившие опять слезы, вскричала мать. — Доченька, как же ты надолго нас покидаешь.
— До пятницы, — удалось той наконец вымолвить слово. — До пятницы, всего на неделю.
— До пятницы, — отозвались отец с матерью, — до пятницы.
И в это мгновенье старенькие, низенькие вагончики неожиданно дрогнули и скрипя, шипя поползли вперед.
Поезд устремился вдаль, на просторы полей.
Девушка высунулась из окна, глядя на родителей. Прямо, неподвижно стояли они рядом, махая платками. Некоторое время она их различала, потом потеряла из виду.
Казармы, колокольни, стога сена, кружась, отступали назад, столбы бежали мимо. Лиловые цветочки кивали, пригибаемые ветром от поезда. Пыль и яркое солнце слепили глаза, а от дымной вони каменного угля она даже закашлялась. Все плыло, качалось вокруг.
Дочь была вся в отца. Обычно жила, как живется, со дня на день. Но сменявшиеся за окном картины, убегавшие поля привели на память то, чего никогда не изменишь, от чего никуда не убежишь, и сердце ее сжалось.
Она перешла к другому, закрытому окну, но увидала в стекле свое отражение. Она не любила смотреть на себя, это суетно, да и зачем?
И, словно спасаясь бегством, унося свою скорбь в укромный, надежный уголок, девушка по зыбкому полу вагона поспешила обратно в купе. Но сил не хватило.
Дойдя до отделения, где сидели молодой человек с сухощавым стариком священником, она не выдержала.
Глаза вдруг наполнились слезами.
Первыми ее чувствами были испуг и удивление, что случилось, чего она боялась, чего ожидала не сейчас, а потом, по приезде, или еще позднее. Сама еще себе не веря и инстинктивно таясь, пытаясь заслониться от попутчиков, она поднесла было руки к глазам. Господи, какие слезы. Неужто такое море разливанное бывает на свете!
И платок уже не стала искать. Море ведь не осушишь. Стояла перед двумя мужчинами и плакала в открытую, почти бесстыдно упиваясь своим необузданным страданием, напоказ выставляя безутешное свое проклятие — безвольно и вместе вызывающе. Ей все равно было, что на нее смотрят. Да она и не видела никого. Зрение вновь и вновь застилала пелена слез.
Потом дыхание перехватила судорога, нервная и мышечная спазма. Словно ком застрял в горле, стянув его терпкой, как от вина, невыносимо горькой оскоминой.
Древнее действо — плач — разыгрывалось перед ее спутниками. Грудь вздымал один бесконечный титанический вздох, подергивающиеся губы тщетно ловили воздух. Несколько таких схваток — и стиснувшая ее судорога завершилась тоже мучительным, но благим разрешением от бремени.
Она припала к двери купе, чтобы облегчить себе эту тяжкую работу. Гримаса физической боли уже не кривила ее лица. Только жаркие потоки лились из глаз, изо рта, из носу, все слезные хляби разверзлись. И тело, здоровое само по себе, от плеч до колен сотрясал какой-то незримый, ей одной ведомый недуг: то ли смутное, безотчетное воспоминание, то ли недодуманная, но неотступно гложущая мысль: никакими воплями не выразимая душевная мука.
Она опустилась на сиденье. Большое ее лицо пошло пятнами от солнца, мокрый нос распух и побагровел. В шляпе с перьями у бедняжки был совсем маскарадный вид.
Читавший что-то молодой человек, смазливый и недалекий, отложил книгу на колени и уставился на рыдающую девушку. Несколько раз порывался он открыть рот — предложить помощь, недоумевая, что с ней такое: плохо стало или постиг один из тех ударов, о которых писалось в его глупых книжках.
Но девушка не удостоила его внимания. С откровенной почти неприязнью устремила она взгляд поверх его головы. Ведь все молодые люди, когда она на них еще смотрела, словно сговорясь, отводили глаза, с умышленной холодностью встречая ее попытки к сближению. И теперь она защищалась таким образом от них.

Книга «Шесть повестей…» вышла в берлинском издательстве «Геликон» в оформлении и с иллюстрациями работы знаменитого Эль Лисицкого, вместе с которым Эренбург тогда выпускал журнал «Вещь». Все «повести» связаны сквозной темой — это русская революция. Отношение критики к этой книге диктовалось их отношением к революции — кошмар, бессмыслица, бред или совсем наоборот — нечто серьезное, всемирное. Любопытно, что критики не придали значения эпиграфу к книге: он был напечатан по-латыни, без перевода. Это строка Овидия из книги «Tristia» («Скорбные элегии»); в переводе она значит: «Для наказания мне этот назначен край».

Роман «Призовая лошадь» известного чилийского писателя Фернандо Алегрии (род. в 1918 г.) рассказывает о злоключениях молодого чилийца, вынужденного покинуть родину и отправиться в Соединенные Штаты в поисках заработка. Яркое и красочное отражение получили в романе быт и нравы Сан-Франциско.
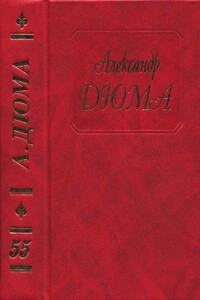
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
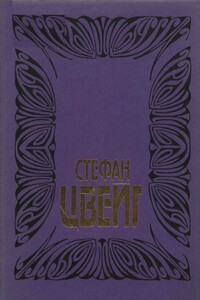
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 — 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В девятый том Собрания сочинений вошли произведения, посвященные великим гуманистам XVI века, «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», «Совесть против насилия» и «Монтень», своеобразный гимн человеческому деянию — «Магеллан», а также повесть об одной исторической ошибке — «Америго».

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».