Избранное - [2]
Несправедливое это отношение не могло не задевать, не уязвлять писателя, и в своем полемическом ожесточении он в пику, в отместку готов был порой даже встать именно в ту позу, которую ему приписывали (как в нашумевшей дискуссии 20-х годов о наследии Эндре Ади: Костолани демонстративно отказал ему в признании). На дело же, конечно, пусть не отдавая себе в этом полного отчета, он не только не противостоял Ади или Морицу, а продолжал их. Дополнял и расширял социальный гуманизм обоих в нравственно-психологическом направлении, заглядывая в самые потаенные уголки, мельчайшие изгибы, изломы немудрящего рядового сознания. Ибо там, в тесном малом мирке, возникали коллизии не менее кричащие, нежели в мире широком. И угадывались пусть неразвитые, но многообещающие добрые задатки.
Какое потрясение переживает, например, тот же мальчик, убеждаясь, что не кто иной, как его отец, — безгласный социальный нуль («Ключ»). Или, еще хуже, — жулик, шулер («Карты»)! И как терзается Акош Вайкаи, в себе самом сталкиваясь с постыдной склонностью к бездумно легкому, а в логическом пределе — бездельно-паразитическому времяпрепровождению, существованию. Но эти мучительные потрясения, очистительные терзания — почва, залог и каких-то высоких, подвижнических решений, честных обетов на всю жизнь, не менее важных для общества, чем самые смелые и героичные.
Необеспеченный провинциальный журналист, непонятый писатель, жертва и свидетель всепроникающих жизненных неурядиц в габсбургской, а затем хортистской Венгрии, Костолани сам немало страдал. Но именно поэтому не терпел преуспеяния за чужой счет, презирал богатство, плодящее одно равнодушие («Китайский кувшин»), и умел понимать чужое страдание, глубоко сочувствуя обездоленным и несчастным. Так же как Миклош Ийаш, чуткий наблюдатель семейной трагедии Вайкаи, или другое второе «я» автора (хотя ни одно второе «я» полностью с его личностью не совпадает), Корнел Эшти, который — в одной из глав романа о нем — оказывается соседом по купе с душевнобольной девушкой и ее матерью. Правда, Эшти — по молодости лет — еще может заглушить жуткую догадку о том, каково же матери, может забыться, погрузиться в приветливую стихию итальянской природы и культуры. Сам же писатель, умудренный человек, ни забыться, ни отстраниться не мог.
Но это не значит, что у него не было своих радостей, скрашивавших трудные, невеселые будни во много претерпевшей стране. Само уже это высокое, преданное сочувствие было радостью — настолько же сильной, яркой, насколько сам он дарованием, умом, кругозором, убежденной верой в добро превосходил своих меньших собратьев, собственных героев. У Костолани много скорби о людях, но нет «сдачи», капитуляции, поднятых или опущенных рук (что в общем, сверхличном итоге одно и то же). Сознание его хотя и ранено социальным злом — не «несчастное» (как позже говорилось, например, применительно к А. Камю). Повести, рассказы венгерского писателя, даже очень небольшие, заставляют призадуматься над быстротечностью жизни, в которой, однако, именно поэтому так важно что-то успеть, чего-то не упустить; над относительностью всего, именно поэтому побуждающей в непостоянстве искать и по достоинству ценить нечто постоянное, чтобы не погрязнуть в «тине», рутине, во зле — не заплутаться и не потерять себя, как Калигула (в одноименном рассказе), кто, лишь умерев, стал похож на человека.
Такая постоянная составляющая жизни и есть добро. Не озлобление, не вымещение на других («Имре») и не равнодушие, которое сродни бездушию, а осветляющее бытие деятельное участие в общих бедах. Исцеляющий недуги врач («Два мира»), делящийся своим опытом и знаниями учитель, бескорыстно входящий в чужое положение, переживающий его как собственное художник — это всё самые священные профессии для Костолани. Он был убежден в праведной силе добра, которое так или иначе обязательно проложит себе путь. Кто прав, тот могуч, заявляет у него поэт в одном из посвященных римской древности рассказов («Паулина»).
Эта скромная, но неколебимая убежденность высоко подымала Дежё Костолани над всяческим скепсисом, релятивизмом, всякой пустой литературностью. Уверенность в силе добра озаряет и его маленькие будничные трагедии, эти смешные и грустные драмы повседневности, вводя их в серьезную, большую прозу. В ту социально благородную классическую литературу, которая всегда была верной и заботливой спутницей человечества.
О. Россиянов
ЖАВОРОНОК
Повесть
Глава первая,
в которой читатель знакомится со стариками родителями и дочкой, кумиром их жизни, а также узнает про хлопотные сборы в одно степное имение
На диване с высокой спинкой вместе с трехцветными тесемками, обрывками веревок, клочьями бумаги валялась разодранная газета с черными буквами вверху: «Шарсегский вестник, 1899».
На освещенном ярким солнцем табель-календаре рядом с зеркалом виднелись месяц и день: «Сентябрь, 1, пятница».
А расписные часы в резном деревянном футляре со стеклянными стенками, рассекавшие медным маятником на кусочки бесконечный этот день, показывали точное время: половину первого.
Отец с матерью укладывали вещи в столовой.

В сборник крупнейшего словацкого писателя-реалиста Иозефа Грегора-Тайовского вошли рассказы 1890–1918 годов о крестьянской жизни, бесправии народа и несправедливости общественного устройства.
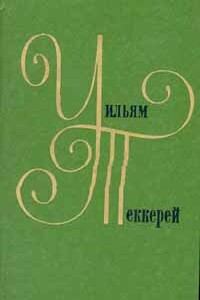
Что нужно для того, чтобы сделать быструю карьеру и приобрести себе вес в обществе? Совсем немногое: в нужное время и в нужном месте у намекнуть о своем знатном родственнике, показав предмет его милости к вам. Как раз это и произошло с героем повести, хотя сам он и не помышлял поначалу об этом. .
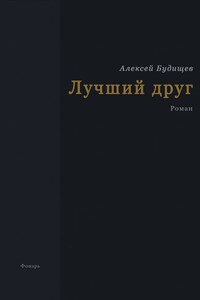
Алексей Николаевич Будищев (1867-1916) — русский писатель, поэт, драматург, публицист. Роман «Лучший друг». 1901 г. Электронная версия книги подготовлена журналом Фонарь.

«Анекдоты о императоре Павле Первом, самодержце Всероссийском» — книга Евдокима Тыртова, в которой собраны воспоминания современников русского императора о некоторых эпизодах его жизни. Автор указывает, что использовал сочинения иностранных и русских писателей, в которых был изображен Павел Первый, с тем, чтобы собрать воедино все исторические свидетельства об этом великом человеке. В начале книги Тыртов прославляет монархию как единственно верный способ государственного устройства. Далее идет краткий портрет русского самодержца.

В однотомник выдающегося венгерского прозаика Л. Надя (1883—1954) входят роман «Ученик», написанный во время войны и опубликованный в 1945 году, — произведение, пронизанное острой социальной критикой и в значительной мере автобиографическое, как и «Дневник из подвала», относящийся к периоду освобождения Венгрии от фашизма, а также лучшие новеллы.

Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. С ним все происходило не так, как обычно происходит с дурными мальчиками в книжках для воскресных школ. Джим этот был словно заговоренный, — только так и можно объяснить то, что ему все сходило с рук.