Избранное - [28]
Но, не довольствуясь этим, стал он копать, бередить дальше.
Мать обрадовалась его участию, хотя не очень понимала, чем оно вызвано.
— А вы не знакомы с ней, Миклош? — обернулась она к молодому человеку.
— Нет, не пришлось. То есть видел, правда, несколько раз. На одном собрании в патронате. Очень усердная она у вас.
— О, еще какая старательная.
— И с вами вместе видел. Когда вы гулять ходили, вон туда, втроем. Она посередине всегда.
— Да, да.
— Простая такая, отзывчивая.
— Добрая душа, — подымая глаза к небу, сказала мать.
— Видно, что девушка славная, деликатная. Не то, что здешние девицы.
— Как было бы ей приятно слышать это, — вздохнула мать. — И с вами познакомиться. Она ведь тоже любит хорошие стихи. У нее даже книга есть, куда она их переписывает, — верно, отец?
Акош тростью постукивал по стенам. Ему нужен был шум, потому что он слышал внутренний голос, кричавший громче говорящих. Его он и хотел заставить замолчать. Ийаш между тем разузнавал о том о сем, вплоть до мелочей, допытываясь, какие у девушки привычки, и ставя иногда вопросы такие четкие, как доктор Галь у постели больного. А потом нарисовал им портрет, который в точности совпал.
Бедным Жаворонком за всю жизнь никто так не интересовался — и с таким добрым участием, такой теплотой.
Миклош не стал говорить, красива она или уродлива. Лгать он не хотел и, лавируя между двумя крайностями, обходя опасные места, нашел иной, более возвышенный путь: путь примирения. И в душе матери, которая жадно его слушала, шевельнулась робкая догадка, смутная надежда, в которой она сама себе не смела признаться.
— Загляните как-нибудь, если время будет, правда, Миклош, — сказала она. — Приходите к нам в гости.
— С вашего разрешения, — поклонился Ийаш.
Они были у своего домика. И проводил их молодой человек. Давно с ними этого не случалось.
— Спасибо, Миклош, — пожал ему руку Акош и вошел торопливо в ворота.
Железная калитка захлопнулась за ними.
Миклош смотрел через решетку в сад. Там было тихо и пустынно.
Виднелись стеклянные шары и будто стороживший что-то каменный гном на газоне. Подсолнух склонил в сгущавшихся сумерках свою голову, точно ослепнув: разыскивая солнце на земле, которое привык видеть в небе, а теперь не находя нигде.
Изнутри, из дома слышалась возня: старики укладывались спать. Миклош как наяву видел перед собой их жалкие комнаты со всеми скопившимися за долгие годы горестями, невыметенным мусором целой жизни по углам. Закрыв глаза, вдыхал он горький аромат сада. В такие минуты ему «работалось».
Долго стоял он так, терпеливо, как поджидающий подругу влюбленный. Хотя он-то не ждал и не любил никого — по крайней мере, обычной, земной любовью. Любовь его была небесной: он умел понять другого человека и, обнажив, освободив его жизнь от бренных телесных покровов, обнять, прочувствовать ее как свою собственную. Из этой величайшей боли рождается величайшая радость: знать, что и тебя когда-нибудь поймут; что и твои слова, твоя жизнь будут в свой черед как собственные приняты другими.
Узнанное об отце сделало его восприимчивей и к чужим страданиям. Прежде ему казалось, что посторонние ровно никакого отношения к нему не имеют, а он — к ним: к Кёрнеи этому, к пьянице Сунегу, кривляке Сойваи, молчуну Добе, даже к бедняжке Жаворонку. Конечно, на первый взгляд все они не интересны: изломаны и искалечены, глубоко запрятались в себя. Это фигуры не трагические, их здесь и быть не может. Но все-таки какие сложные и близкие, ему родные. И если уж он крикнет когда-нибудь, так про это. Только к ним имеет касательство его жизнь.
Этот вывод он и понес с собой, тверже, решительней зашагав по улице Петефи. Стишок, который вертелся у него в голове, никуда не годился, и он бросил о нем думать. О другом надо написать — быть может, об этих стариках и услышанном от них: о веранде и длинном-длинном столе, за которым когда-то сидели все вместе, но больше уже не сидят.
На площади Сечени пустился он бегом, торопясь на улицу Гомбкете, к издателю и ответственному редактору «Шарсегского вестника» Кладеку, который жил рядом с парикмахерской.
Этот бородатый, туго соображавший, но образованный и доброжелательный пожилой господин перестал уже и бывать в редакции, требуя от помощника только наведываться к нему раз в день. А сам сидел невылазно за керосиновой лампой в своей запущенной комнате с грудами книг на полу и беспорядочными, в человеческий рост баррикадами старых газет на окнах. Стар он уже стал для проклятой этой современности и рукой махнул на новое поколение. Пусть себе делает что хочет, пускай хвалит в газете свой сецессион.
Из набитого бумагами кармана вытащил он передовицу, сочинение Фери Фюзеша «Как уберечь виноградники от заморозков» и протянул Ийашу, попросив занести в типографию. Должно же быть в газете какое-то чтение и для шарсегских крестьян.
Оставалось еще принять телефонограмму из Будапешта о деле Дрейфуса и последних политических новостях. Ийаш прибавил шагу: Будапешт звонил обыкновенно в девять.
Глава восьмая,
где можно прочесть письмо от Жаворонка в полном объеме
На следующий день, едва выйдя за ворота, Акош столкнулся с почтальоном: тот нес заказное письмо.
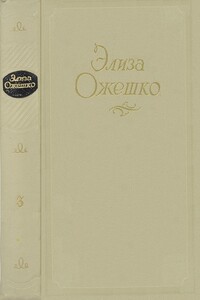
Роман «Над Неманом» выдающейся польской писательницы Элизы Ожешко (1841–1910) — великолепный гимн труду. Он весь пронизан глубокой мыслью, что самые лучшие человеческие качества — любовь, дружба, умение понимать и беречь природу, любить родину — даны только людям труда. Глубокая вера писательницы в благотворное влияние человеческого труда подчеркивается и судьбами героев романа. Выросшая в помещичьем доме Юстына Ожельская отказывается от брака по расчету и уходит к любимому — в мужицкую хату. Ее тетка Марта, которая много лет назад не нашла в себе подобной решимости, горько сожалеет в старости о своей ошибке…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Цикл «Маленькие рассказы» был опубликован в 1946 г. в книге «Басни и маленькие рассказы», подготовленной к изданию Мирославом Галиком (издательство Франтишека Борового). В основу книги легла папка под приведенным выше названием, в которой находились газетные вырезки и рукописи. Папка эта была найдена в личном архиве писателя. Нетрудно заметить, что в этих рассказах-миниатюрах Чапек поднимает многие серьезные, злободневные вопросы, волновавшие чешскую общественность во второй половине 30-х годов, накануне фашистской оккупации Чехословакии.

Настоящий том «Библиотеки литературы США» посвящен творчеству Стивена Крейна (1871–1900) и Фрэнка Норриса (1871–1902), писавших на рубеже XIX и XX веков. Проложив в американской прозе путь натурализму, они остались в истории литературы США крупнейшими представителями этого направления. Стивен Крейн представлен романом «Алый знак доблести» (1895), Фрэнк Норрис — романом «Спрут» (1901).

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.