Избранное - [27]
Он подразумевал свои стихи, которые, не привлекая ровно ничьего внимания, появлялись в воскресных номерах «Шарсегского вестника», и потянул себя многозначительно за нижнюю губу: жест, выражавший неудовлетворенное честолюбие и жажду признания.
Но намек его остался непонятым. Акош не читал стихов. Жена, если и читала, не смотрела, кто автор. Ей это было не важно.
На углу длинной, безлюдной улицы Петефи, молчаливо уходившей вдаль, Миклош остановился.
— Что за унылая дыра этот Шарсег. Не пойму, как здесь можно жить. В Будапешт бы. Я был там на прошлой неделе. О, Будапешт!
И на это он не получил ответа. Но слушали его как будто доброжелательно, и у него пробудилось доверие к этим старикам, захотелось им излиться.
— После смерти отца я не бывал в Будапеште, — сознался он.
Упоминание о том, про кого он никому не говорил, чью память хранил бережно и стыдливо, расположило к нему стариков.
— Бедняга, — оба сразу отозвались они.
— Ты ведь знал его, — сказал Миклош, взглянув на Акоша.
— Знал. И любил. И уважал. Мой добрый, старый друг.
Они пошли медленней. Акош хмурился. Сколько приходится детям страдать из-за родителей, а родителям из-за детей!
— Мы были знакомы домами, — сказала г-жа Вайкаи. — Они к нам ходили, мы — к ним. Вы еще, Миклош, малышом были тогда, семи-восьми лет. С Ене в войну играли. А мы на веранде сидели, за тем длинным большим столом.
— Редкой души был человек, — заговорил опять Акош.
— Лица его я почти уже и не помню, — с грустью признался Ийаш.
Остановись под газовым фонарем, Акош поглядел на Миклоша.
— Ростом ты как раз с него. Вы похожи. Он тоже был высокий, только поплотнее.
— Потом-то он сдал. Худой-худой стал, все переживал. Да и все мы настрадались. Мама плакала по целым дням. А брат, ты знаешь. Ну, и я.
— Ты-то ребенком был.
— Да. Я и не понимал тогда всего. Но позже… Тяжело было, дядя Акош, очень тяжело. Отдали вот право изучать. Место в комитате для меня нашлось бы, но люди… В Гамбург поехал, в Америку хотел бежать. Куда шулеры и растратчики удирают, — засмеялся он.
Смех этот неприятно задел Акоша. Как можно так открыто говорить о сокровенном, бахвалиться собственной болью? Или, может, ему и не больно уже? Раз он смеется.
— Но не убежал, — продолжал Миклош. — Здесь остался, нарочно. Писать начал. И поверишь, отдалился, гораздо больше отдалился от всех, чем если б в Америке жил.
Что? Этого Акош уже не мог понять. Это показалось ему похвальбой, детской бравадой. Но, взглянув юноше в лицо, он что-то особенное приметил в нем. Слегка оно напоминало Вун Чхи в густом желтом гриме. Этот юноша тоже будто загримирован, маску носит. Только его маска резче, тверже, точно окаменела от боли.
— Мне, — заметил Ийаш, — теперь совершенно безразлично, что там про меня Фери Фюзеш болтает и прочие.
Видимо, он правду говорил, потому что в голосе у него зазвенел металл, а шаг приобрел стальную упругость.
Чудны́е они все-таки, эта богема. Бездельничают, а говорят, что работают; несчастные, а уверяют, будто счастливы. Бед у них тоже хоть отбавляй, а справляются с ними лучше остальных. Страдания их как будто закаляют.
Вот и Зани: не так уж и подавлен тем, что бросила его Ольга Орос. Так непринужденно развлекал дам на обеде у губернатора, изящно жестикулируя заклеенной тонким английским пластырем рукой. А вечером опять наложит грим и будет по-прежнему играть. Сойваи часто поужинать не на что, у папаши Фехера занимает, а держится с каким достоинством… И этот несчастный мальчик: ему плакать впору, а он вон хорохорится, учит жить. Это меня-то, кто уже столько пережил; мне советует, наставляет, не признавая никаких возражений.
Поди к ним подступись. Живут как на острове, вдали от людей, от мирских законов. Найти бы туда дорогу, в это царство грима и уверенности. Но дороги нет. Жизнь — не комедия, не переодевание. На чью-то долю остается лишь боль, безликая и беспощадная. От нее никуда не уйдешь, никуда не денешься, только глубже будешь в нее зарываться, в эту свою бесконечную шахту, мрачную штольню, пока она не обрушится на тебя, и тогда конец, спасенья нет.
Акош не в силах был сосредоточиться на словах юного своего друга, который что-то путаное нес о вечности страдания, разглагольствуя о своих стихах, уже написанных и тех, что еще напишет.
— Трудиться надо, работать, — все повторял он. — Да, да, работать, — подхватил Акош. — Труд, мой дружок, только труд. Только он украшает человека.
Ийаш умолк, поняв, что они говорят на разных языках. Но, благодарный уже хотя бы за внимание, перешел ближе к г-же Вайкаи — ее занять разговором.
— А Жаворонок не вернулся еще?
Та вздрогнула. Странно так, неожиданно — впервые за пять дней услышать ее имя. Да еще ласкательное.
— Нет, — ответила она. — В пятницу только ждем.
— Представляю, как вы скучаете по ней.
— Ужасно, — вздохнула мать. — Но здесь она заработалась совсем. Послали вот на степной хутор отдохнуть.
— Отдохнуть, — подтвердил отец.
В нервном напряжении он всегда механически повторял последнее услышанное слово, как бы заглушая донимающие его мысли.
От Ийаша это не ускользнуло, и он заглянул старику в лицо, как тот недавно в его собственное. Острая жалость кольнула его. Несколько слов, а какие глубинные, первобытные пласты боли они зацепили.
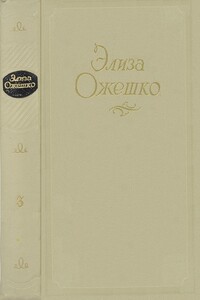
Роман «Над Неманом» выдающейся польской писательницы Элизы Ожешко (1841–1910) — великолепный гимн труду. Он весь пронизан глубокой мыслью, что самые лучшие человеческие качества — любовь, дружба, умение понимать и беречь природу, любить родину — даны только людям труда. Глубокая вера писательницы в благотворное влияние человеческого труда подчеркивается и судьбами героев романа. Выросшая в помещичьем доме Юстына Ожельская отказывается от брака по расчету и уходит к любимому — в мужицкую хату. Ее тетка Марта, которая много лет назад не нашла в себе подобной решимости, горько сожалеет в старости о своей ошибке…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Цикл «Маленькие рассказы» был опубликован в 1946 г. в книге «Басни и маленькие рассказы», подготовленной к изданию Мирославом Галиком (издательство Франтишека Борового). В основу книги легла папка под приведенным выше названием, в которой находились газетные вырезки и рукописи. Папка эта была найдена в личном архиве писателя. Нетрудно заметить, что в этих рассказах-миниатюрах Чапек поднимает многие серьезные, злободневные вопросы, волновавшие чешскую общественность во второй половине 30-х годов, накануне фашистской оккупации Чехословакии.

Настоящий том «Библиотеки литературы США» посвящен творчеству Стивена Крейна (1871–1900) и Фрэнка Норриса (1871–1902), писавших на рубеже XIX и XX веков. Проложив в американской прозе путь натурализму, они остались в истории литературы США крупнейшими представителями этого направления. Стивен Крейн представлен романом «Алый знак доблести» (1895), Фрэнк Норрис — романом «Спрут» (1901).

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.