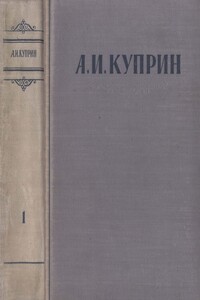Избранное - [19]
— Запах роскошный, — заметил Фери Фюзеш.
Акоша даже покоробило. Ему-то что, «роскошный» или не «роскошный»! Вот он сам сейчас распробует. И низко-низко, к самой пурпурной подливке опустил в серебряную миску свой хрящеватый, почти мертвенно-бледный нос, словно для себя одного приберегая это наслаждение, глубоко вдыхая пахучий пар. Фери Фюзеш был прав: запах роскошный; но вкус, господа, вкус и того роскошней.
С жадностью поглощал он гуляш, подчищая тарелку кусочками хлеба, совсем как галантерейщик, Вейс и Товарищ.
— Илонка! — раздались голоса. — Илонка, булочек, рогаликов соленых!
Подошла Илонка, пятнадцатилетняя дочка ресторатора, которой вменялось в обязанность восполнять убыль в плетеных сухарницах. В бесплодной надежде на артистическую карьеру болталась она тут, в отцовском ресторане. Мечтой ее было попасть в шарсегский театр Кишфалуди. Но заветным этим желанием она ни с кем не делилась и, с немой тоской воззрившись на Имре Зани, отошла со вздохом к другому столу. Была она бледна, как пресная лепешка.
— Выпьешь чего-нибудь? — спросил Кёрнеи у Акоша.
— Нет, нет. Я, знаешь, пятнадцать лет ничего не пью.
Сунег обратился в слух.
— А под гуляш хорошо идет, — настаивал председательствующий. — Надо же хоть запить. Ну, старина? Стаканчик.
— Тогда, может быть, пива немножко, — сказал Акош, вопросительно глядя на доктора Галя, своего домашнего врача. — Там алкоголя поменьше. Кружку пива, — бросил он официанту и крикнул вдогонку: — Только самую маленькую, голубчик!
Осторожно отпил он несколько глотков. Белая пена осела на его серых усах. Он обсосал их.
Потом заказал телячье челышко, ванильную лапшу, которая, по счастью, еще не кончилась, и оказалась превкусной; съел эментальского сыру и напоследок — два яблока.
— Не вредно ли будет, отец? — с ласковой заботой осведомилась жена, которую опекали артист и аптекарь.
— Какое там вредно, — откликнулись все за него вместе с домашним врачом и предложили: — Еще кружечку?
— Нет, спасибо, хватит, — воспротивился Акош. — Лукуллов пир, — с усмешкой добавил он, чувствуя, что наелся до отвалу.
Сыт, как говорится, и пьян, только что нос не в табаке.
Но в это мгновенье Балинт Кёрнеи извлек из внутреннего кармана портсигар с изображением головы борзой, откинул кожаный клапан и, развернув два ряда сигар, без дальних слов положил перед ним: угощайся, мол.
Акош вынул великолепную темную «тису», самым что ни на есть естественным движением сорвал ярлычок и, прежде чем комик успел подать перочинный нож, откусил кончик и сунул сигару в рот. Сойваи поднес спичку.
Жена с некоторым изумлением наблюдала за всем этим, но, видя, что доктор Галь не возражает, не стала ему портить удовольствие, продолжая болтать со своими кавалерами.
Чмокая блестящим слюнявым кончиком, с младенческой жадностью сосал старик сигару, эту свою горько-ароматичную пустышку. Дым ласкал его девственно-нежное, отвыкшее от табака нёбо, приятно щекоча обоняние и туманя голову — будоража ленивую старческую кровь, будя давно забытые ощущения. Что ему теперь до национальных прав и козней Вены, Дрейфуса и Лябори?[30] Откинувшись на спинку стула, отдался он пищеварению. Позже, правда, и сам отважился на два-три замечания. Но охотней беседовал с мудрецом Сунегом, который, как водолаз — сокровища, извлекал свои погребенные на дне винно-водочного моря познания, поделясь с Акошем кое-какими бесценными профессиональными сведениями о языке королевских жалованных грамот: средневековой латыни. Компания уютно посиживала, окутавшись клубами дыма и даже не помышляя о возвращении домой, хотя ресторан уже почти опустел.
В половине четвертого явился какой-то человек под пятьдесят в грязно-синей фланелевой рубашке и заношенном пальто табачного цвета — явный чужак в столь изысканном обществе.
— Ваш покорнейший слуга, — поздоровался он слезливо, как попрошайка, и кланяясь низко, как цыган.
Его тут же усадили, обращаясь к нему на «ты».
Это оказался директор театра Арачи. В руках у него был зонтик, с которым он не расставался и в ясную погоду — не то чтобы выглядеть еще жалостней, не то в напоминание о палках, с которыми бродячие актеры, «поденщики нации», скитались по дорогам. Писклявым голоском, которым когда-то своды потрясал в трагических ролях, принялся он плакаться на судьбу и невзгоды. Тем не менее были у него и домик в городе, и виноградничек, и в банке тысчонок двести.
Каждодневной своей обязанностью почитал он, помимо прочего, заглядывать после обеда на полчасика к «Королю», потереться в избранном обществе. Представленный Акошу, Арачи тотчас начал его обхаживать.
С приятнейшей, почтительнейшей улыбкой выразил он изумление, что не имел еще счастья видеть его в театре.
— Мы, изволите ли видеть, живем потихоньку, — вперяя взор в пространство, отвечал Акош. — Потихоньку живем в скромном нашем домике.
— Но теперь, надеюсь, окажете честь, — молвил директор, выкладывая на стол два розовых билета.
«Ложа бенуара» — стояло на них.
— Не знаю уж.
Акош покосился на жену.
— О, — сказала та, покраснев и неловко пожимая плечами. — Не привыкли мы в театры ходить.
— Не лишайте нас удовольствия, сударыня, — вмешался Имре Зани.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевёл коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.
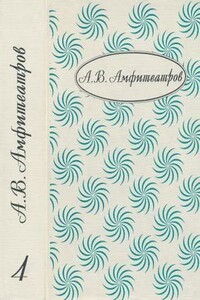
В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф. И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др.
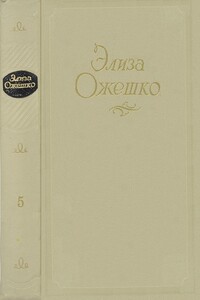
В 5 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли рассказы 1860-х — 1880-х годов:«В голодный год»,«Юлианка»,«Четырнадцатая часть»,«Нерадостная идиллия»,«Сильфида»,«Панна Антонина»,«Добрая пани»,«Романо′ва»,«А… В… С…»,«Тадеуш»,«Зимний вечер»,«Эхо»,«Дай цветочек»,«Одна сотая».