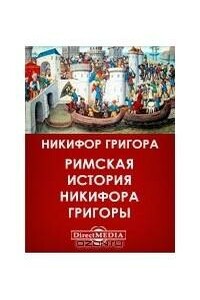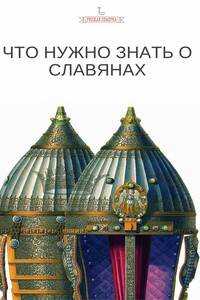! И немного ниже, когда противник его просил у него примера и подобия и говорил: «Дай мне из одного и того же и Сына и не Сына и потом единосущие, и тогда я допущу Бога и Бога»; Григорий отвечал так: «Дай мне и ты другого Бога и природу Божию; тогда и я дам тебе одну и ту же Троицу с одними и теми же именами и делами. Если один Бог и если поэтому одна высочайшая природа, откуда возьму я тебе подобие»? Подлинно, стыдно, да не только стыдно, а и крайне нелепо с предметов дольних брать подобие для предметов горних, и с природы изменчивой для предметов неизменных и, как говорит Исайя, искать живого между мертвыми. Поэтому-то Григорий и в другом месте
[332] говорит: «Оставаясь в наших пределах, мы вводим Нерожденное, Рожденное и от Отца Исходящее, как сказал Сам Бог Слово». В этих словах высказано не желание исследовать тайны, а старание страхом отклонить от их исследования безумно решающихся на опасное дело. В самом деле, что другое хотел этим сказать тот, который говорит, что у людей нельзя найти даже названий, приличных божественной природе? «Если, — говорит он, — последнее из того, что может быть постигаемо — ψυχή и λόγος, не имеет для себя точных имен, но душа (ψυχή) называется женским именем, хотя не имеет природы женской, а ум (λόγος) называется именем мужским, хотя не имеет природы мужской; то как мы можем сказать, что называем точными именами то разумное Существо, которое первее всего и превыше всего»
[333]? Таким образом, когда над нашим разумением понятий и названий распростерт такой мрак ночи, кто в силах будет рассуждать об них? А если бы кто взялся за это, тот вдвойне погрешил бы: и тем, что ничего не знает в этих вещах, и тем, что не знает о своем незнании. А человек, не знающий, когда и как должно рассуждать, когда придет время, окажется не в состоянии сообразить, о чем и как следует ему рассуждать. Если же ему и удастся сказать что-нибудь, слушатели будут подозрительно смотреть на его слова и будут его остерегаться, узнав в нем человека простого и неисправимо глупого. Может быть, и святые отцы отвечали бы полным молчанием на нелепые споры известных лиц, если бы только не были поставлены в крайнюю необходимость опровергать их, видя, что народ легко может увлечься то тою, то другою появляющеюся ересью, будучи еще недостаточно тверд в вере. Но теперь, когда народ так тверд и крепок в вере, что скорее железо изменится в своих свойствах, чем он допустит незначительное отступление от отеческих догматов, какая нужда в прениях, не имеющих принести никакой пользы? Да, кстати, воскликну словами Апостола: я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не разлучит его (Рим. 8, 9) с отеческими законоположениями и догматами! Еще пусть бы уже латиняне впервые нас беспокоили своими предложениями, тогда, быть может, мы и сами охотно вступили бы в состязание, с Божиею помощью. Но так как все это уже исследовано, как должно определено и давностью времени вполне утверждено, и так как они, приходя к нам много раз, столько же раз были и отвергаемы, то по какому праву мы будем теперь поднимать то, что прекрасно положено древле, и трудиться попусту над повтореньем одного и того же? Для них это, конечно, не тягостно и даже очень желательно. Сменяя одни доказательства другими, которые льстят им и всегда обещают хорошее, они добиваются или нанести нам, врагам своим, когда-нибудь поражение и тем смыть с себя древний позор, или же с обычною им надменностью разлиться на соборе потоком слов и потом, вышедши оттуда, всюду бесстыдно распустить ложную молву, как они одержали победу; такова их мелочность! Но мы не должны выдавать на посмеяние свое достоинство и допускать то, что выгодно нашим противникам, но скорее делать то, что выгодно нам. Греки, принадлежавшие к школе Пифагора или Эпикура, считали до такой степени священными и непререкаемыми их положения и определения, что каждое слово их принимали в молчании, ни в мысли не допуская сомнения, ни на словах не выражая какого-либо противоречия. После этого не было ли бы крайнею неблагодарностью с нашей стороны не принимать без доказательств божественных законов и догматов, преподанных нам вождями нашей веры и благочестия, не ограничиваться положенными пределами и терпеть учителей посторонних, сомневающихся, пытливых и раздробляющих мысль на мелкие части, подобно тому, как поступают неприятели с награбленной добычей. Притом надобно иметь в виду и то, что творениями святых отцов следует пользоваться не без разбора и не всеми одинаково. Некоторые из них написаны для назидания и руководства, применительно к известным лицам и обстоятельствам, хотя и все они благочестивы. Некоторые имеют характер догматический, другие панегирический, а иные полемический. Из них сочинения полемические, как написанные применительно к известному времени, не следует прилагать к другому. Точно так, если бы кто-нибудь, сражаясь с неприятелем и все свое внимание обращая на меч и щит, вытолкнул из ряда своего же воина, стоящего впереди, то этого дела нельзя было бы ни принять за закон, ни вменить в вину тому, кто его допустил, потому что его мысль необходимо была обращена на другой предмет и он не имел возможности повести дело как-нибудь иначе. Как не следует поступать с сочинениями полемическими, точно так же — и с сочинениями панегирическими и ставить их для себя законом, потому что словесное искусство позволяет в похвальных словах говорить что угодно. Что же касается догматических и истолковательных творений отцов, то им должно следовать безусловно и смело, и пользоваться ими в деле веры, как законами и основаниями. Таким образом я как итальянцев осуждаю и порицаю за то, что они дерзко и надменно вторгаются в область Богословия, так точно называю постыдным и легкомысленным поведение тех из нас, которые делают противное тому, что хвалят, и почти то же самое, что порицают. Если они дерзки и наглы в отношении к этим предметам, то не значит, что и мы должны так вести себя; если они уклонились от правого пути, то не значит, что и нам следует не обращать внимания на то, что постановлено для нас правилом. Нет, твердо стоя внутри положенных пределов, мы должны отражать от себя эти крики, как неподвижные скалы отражают ударяющиеся в них волны. Я боюсь, чтобы, бежа от дыма, не попасть нам в огонь богохульства. Древние греки рассказывают о Платоне, что когда он прибыл к сицилийскому тирану Дионисию, а на стенах дворца лежала слоями пыль, тогда очень многие принялись за черчение геометрических фигур. То же самое, только в другом виде, делается теперь у нас. Теперь тайны Богословия открыты для самых ремесленников, и все ждут силлогистических прений так же нетерпеливо, как скот молодой травы и лугов. И те, которых православие сомнительно, и те, которые не знают ни того, как должно веровать, ни того, что значит веровать, наполнили богословствованием площади, гульбища и все театры и не стыдятся этого солнца, делая его свидетелем своего бесстыдства. Можно ли вообразить нелепость больше этой? В древности, когда догматы эллинов имели силу, существовал особый класс лиц, хранивших эти догматы; тайны, поверенные дельфийским богословам, не позволялось выдавать и поверять никому, хоть бы это был Сократ, Платон или другой какой-нибудь известный и знаменитый мудрец. А у нас, исповедующих таинства истинной Веры, с божественными предметами обращаются без всякого благоговения, и кто бы ни захотел богословствовать, всякому это доступно, и всяк сам посвящает себя в богословы! Между тем великий Богослов Григорий заповедует, чтобы мы так же боялись касаться языком Богословия, как боимся касаться руками пламени. Поэтому он часто делает оговорки, в которых показывает, что как сам неохотно берется рассуждать о Боге, так не одобряет и того, кто смело берется за это дело. «Не похвально, — говорит он, — самое желание, но и предприятие страшно»