Интеллектуальный язык эпохи - [65]
Именно в этом литературно-философском контексте обнаруживаются удивительные соответствия последнего замысла Бодлера и «Словаря прописных истин» Г. Флобера. Эти соответствия прослеживаются не только на уровне формулировок замысла, но и в плане формальных творческих решений, связанных с обращением к жанру словаря или, точнее, сборника плоских мыслей, банальностей, предвзятых мнений, одним словом, «общих мест» культуры и языка. При этом нельзя не отметить буквального совпадения базовой формулы жанра, к которой приходят оба писателя независимо друг от друга: и тот, и другой стремятся мыслить «фейерверками», то есть вспышками, словно бы выхватывающими из темнот бессмыслия или пустословия счастливое мгновение здравомыслия. Вместе с тем не стоит забывать, что эти «фейерверки» рождаются на скользкой грани «прописной истины», перлов массового сознания.
Парадокс жанра «прописных истин» заключается в том, что писатель, коллекционирующий «прописные истины» культуры, волей-неволей обрекает себя на испытание изъясняться не иначе как прописными истинами. Другими словами, собиратель прописных истин рискует оказаться пустословом; во всяком случае, пустословие оказывается своего рода условием возможности построения содержательного высказывания. В этом испытании пустотой язык способен подвести писателя, дать сбой, обрекая его на переливание из пустого в порожнее.
Это парадокс в отношении Флобера был в предельно жесткой форме изложен Сартром: разбирая замысел «Словаря прописных истин», философ прямо говорит об отсутствии всякой истинной мысли в сознании собирателя «прописных истин»:
Флобер никогда не мыслит: защитник «объективизма» не имеет никакой объективности; это означает, что он не соблюдает никакой реальной дистанции между собой и миром; вследствие чего язык является в нем и вне его в навязчивой материальности. Нет, язык не теряет своей сущности, каковая в том, чтобы обозначать, но его значения остаются в словах […]. Это в некотором роде иномысль — материальность, по-обезьяньи копирующая мысль, или, если угодно, мысль, что гоняется за материей, оставаясь при этом в клетке самой материи. Язык, организуясь внутри писателя согласно логике собственных связей, крадет у Флобера мысль […] и заражает его этими псевдомыслями, каковыми являются «прописные идеи» и каковые никому не принадлежат, поскольку, согласно Гюставу, они сидят в каждом из Других […]. На этом уровне Гюстав не верит, что люди говорят: он думает, что людьми говорят…[411]
Я прерываю цитату из Сартра, поскольку ее продолжение затянуло бы нас в нескончаемую полемику относительно сартровской концепции языка, каковая в сущности своей остается радикально контр-поэтической. Тем не менее Сартр верно передает характер угрозы, подстерегающей собирателя прописных истин и общих мест. Действительно, в «Словаре прописных истин» едкая сатира на «общие места» современного французского общества представляется в поразительной смеси предельной объективности и предельной субъективности, где объект критики заключает в себе самого субъекта критики, где в драме мелкобуржуазного сознания, защищающегося от реальности языком «прописных истин», главным действующим лицом выступает не кто иной, как буржуазный писатель, завороженный властью «общих мест», где человеческая глупость не столько активно отрицается, сколько пассивно утверждается в самых материальных формах языка, каковыми являются «общие места».
Возьмем, к примеру, флоберовскую прописную истину в отношении своего времени и современности: «ЭПОХА: Наша. Громить ее. Жаловаться, что непоэтична. Называть переходной, эпохой декаданса»[412]. Вновь мы не можем уклониться от этого вопроса: а кто выступает субъектом высказывания? Господин Прюдом, аптекарь Оме, Шарль Бовари или Гюстав Флобер? Последнее отнюдь не исключается, если вспомнить те диатрибы, которыми периодически разражался Флобер, громя свою эпоху, жалуясь на ее непоэтичность, буквально оплевывая своих современников, мешая их с грязью и отождествляя с этими грядущими искателями человеческой премудрости — глупцами Буваром и Пекюше, в которых вкладывал всего себя. Словом, изобличитель всечеловеческой глупости должен быть либо сверхчеловеком, либо глупцом. Не удивительно поэтому, что Флобер собирался смиренно приписать авторство «Словаря прописных истин» Бувару и Пекюше.
Нам важно было подчеркнуть, какого рода угроза нависает над писателем, сталкивающимся с необходимостью осмысления «общих мест» и «прописных истин». Представляется, что именно эта угроза, этот риск мыслить на скользкой грани тривиальности и оригинальности образует своего рода «избирательное сродство» последних замыслов Бодлера и Флобера, это странное сообщество мысли, в котором два писателя, современники, сверстники, зная и не зная друг друга, сообща и порознь бились над загадкой «общих мест».
Бодлер:
Будь всегда поэтом, даже в прозе. Высокий стиль (Нет ничего прекраснее, чем общее место)[413].
Создать штамп, вот в чем гениальность.
Я должен создать штамп[414].
Не удивляйтесь посему, что банальность живописца натолкнула писателя на

Книга посвящена практически не исследовавшейся в России проблеме сообщества, понимаемого не как институциональное образование, но как условие прочтения самых разных текстов современной культуры. В сферу рассмотрения включаются такие сюжеты, как художественный авангард начала XX века, утопическое в массовой культуре, событие и документ (в том числе Событие с заглавной буквы), образ в противоположность изображению, «множество» и размышления о политических изгоях. Сообщество, понимаемое как форма коллективной аффективности или как «другое» существующего общества, оставляет след в литературных, кинематографических и фотографических произведениях.Книга публикуется в авторской редакции.

Нарратология принадлежит к числу наиболее энергично развивающихся в последние годы областей гуманитарного знания. «Нарратологический поворот» широко востребован в различных сферах культуры, науки и общественной жизни, однако ведущая роль здесь по-прежнему принадлежит литературной нарратологии. При этом количественно более развитая на сегодняшний день западная нарратология до сих пор остается излишне схоластичной, игнорируя исторический подход к предмету своих интересов. Предлагаемая монография является результатом многолетних исследовательских поисков, направленных на формирование исторической нарратологии в качестве инновационного и весьма перспективного научного направления, опирающегося на лучшие традиции отечественного литературоведения (А.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
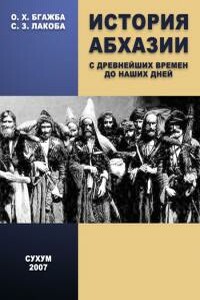
В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.
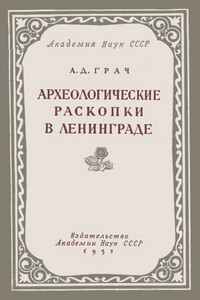
Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.